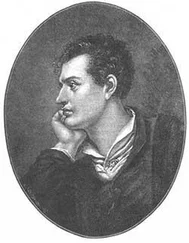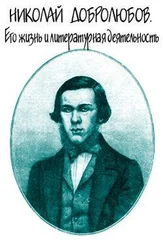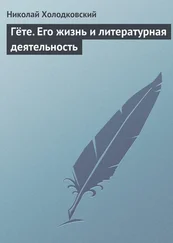Как ночные призраки, разлетятся тогда и растают туманом все современные “символизмы”, поиски “новой красоты” и “новых настроений”. Жажда правды – вот настроение, которое одно имеет под собой твердую почву. Светлое и широкое будущее предстоит поэтому “музе мести и печали”, не устававшей твердить:
Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая – страдания народа
И что поэзия забыть ее должна, —
Не верьте, юноши: не стареет она!
ГЛАВА IX. ОБ ИЗДАНИЯХ НЕКРАСОВА
Не знаем, в каком числе экземпляров выпускались каждый раз стихотворения Некрасова при жизни поэта, но за двадцать лет (1856–1877) они выдержали шесть последовательных тиражей. Первое посмертное издание, вышедшее в свет в феврале 1879 года в шести тысячах экземпляров, разошлось в два года, а в 1881–1882 годах выпущены были, одно за другим, два дешевых компактных издания, каждое по 10 тысяч экземпляров. То и другое распроданы были с изумительной быстротой… Цена следовавших затем изданий была, к сожалению, повышена с трех до пяти рублей; но и они все долго не залеживались, несмотря на то что печатались в 10–15 тысячах экземпляров каждое. В1902 году вышло уже восьмое посмертное издание, отпечатанное в 20 тысячах экземпляров. Таким образом, в общем за четверть века, протекшую со дня смерти Некрасова, было выпущено около ста тысяч экземпляров его сборников, и если принять в расчет, с одной стороны, сравнительно высокую цену книги (в два с половиной раза превышающую цену, например, стихотворений Надсона), с другой – прискорбно-продолжительный и лишь в самое недавнее время, по счастью, окончившийся отлив внимания в русском обществе к доле народной массы, то цифра эта представится довольно-таки внушительной…
Очевидно, широкие круги читающей публики не перестают питать горячий интерес к поэту, над гробом которого раздавались восторженные молодые голоса: “Он выше, выше Пушкина и Лермонтова!”
“Года минули, страсти улеглись”. Для Некрасова настал уже суд потомства. Никто, вероятно, не скажет теперь, что он “выше” Пушкина и Лермонтова, но зато, думаем, никто, кроме ошалелых декадентов, не разделит и мнения знаменитого художника, “друга юности”, а потом “врага” поэта, несправедливо утверждавшего, будто “поэзия даже и не ночевала в его стихах”; никто не решится теперь назвать эту поэзию гнева и печали явлением эфемерным, фальшивым и дутым (мнение, которое не раз, в пылу партиозных увлечений, высказывалось современными Некрасову критиками). Лишь немногие в настоящее время не согласятся, что из всего легиона русских поэтов XIX века один только Некрасов по праву может стать рядом с Пушкиным и Лермонтовым как в смысле общественного значения своей лирики, так и энергии и силы поэтического вдохновения.
К сожалению, те, кто является посредником между обществом и писателем, издатели сочинений Некрасова, заботились все время лишь о собственном преуспеянии и ровно ничего не сделали для того, чтобы связь между публикой и ее любимым поэтом росла и крепла. Конечно, слова эти не относятся к давно уже покойной сестре поэта, Анне Алексеевне Буткевич, под наблюдением которой вышло первое посмертное издание стихотворений (в 1879 году), – издание во всех отношениях замечательное, сделанное любящей и умелой рукой. Главное достоинство его составляли обширные и в высшей степени ценные примечания С. И. Пономарева, в основу которых положены были собственноручные заметки поэта, сделанные им на полях авторского экземпляра предыдущего издания стихотворений. Г-н Пономарев руководился следующим справедливым соображением: “О стихах такого жизненного содержания, как некрасовские, весьма интересно было бы знать многое – и поводы, по которым написаны пьесы, и лица, которых очерчивает поэт, и то впечатление, которое возбуждали его произведения в нашем обществе, в нашей журналистике в минуту своего появления, и пр. Но вполне удовлетворить этим требованиям пока невозможно”. В настоящее время невозможность эта, по всей вероятности, значительно уменьшилась, а между тем позднейшие издатели Некрасова не только не расширили примечаний С. И. Пономарева, но даже и совсем их устранили… Вначале это сделано было под предлогом экономии места в дешевом однотомном издании, но потом, с возвратом к изданию дорогому (двухтомному) и переходом его в собственность г-на Суворина, примечания были просто забыты… И не вспоминают о них вот уже двадцать лет! К чему? Ведь книжка и без того хорошо расходится…
Читать дальше