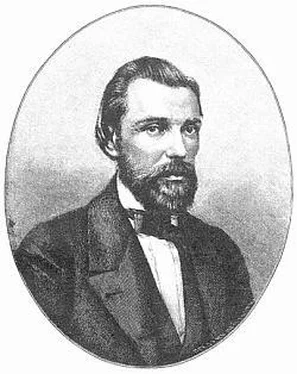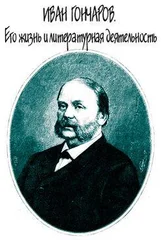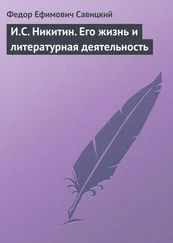Как известно, тридцатые и сороковые годы были у нас временем литературных кружков.
В этих дружеских кружках, в которых сосредоточивались лучшие умственные силы, переживалось все, что только занимало и волновало тогда лучшую часть русского общества: то отвлеченности гегелевской философии, то литература, то вопросы общественной жизни. Известно, какое важное значение имели в истории умственного развития нашего общества такие кружки, как московские Станкевича, Белинского и Грановского или Аксаковых и Киреевских и подобные же им петербургские. Это были главные умственные центры. По примеру их провинциальная интеллигенция также соединялась в кружки, очень часто имевшие какие-либо сношения со столичными; все, что делалось в центрах, было известно, обсуждалось и здесь. Во второй половине пятидесятых годов происходит распадение кружков как в столицах, так и в провинции; но в то время, когда Никитин выступил на литературное поприще, в Воронеже еще существовал такой кружок, соединявший в себе лучшие интеллигентные силы. Во главе его стоял Н. И. Второв, занимавший в то время солидный административный пост в городе. Воспитанник Казанского университета, Второв начал свое служебное поприще в Казани при канцелярии военного губернатора, а затем – библиотекарем университета; в то же время он редактировал местные “Губернские ведомости” и усердно занимался археологией и этнографией края. Затем, после путешествия по Остзейским губерниям, доставившего ему богатый этнографический материал, Второв служил некоторое время в Петербурге, где, между прочим, у него завязались литературные знакомства в кружках князя В. Ф. Одоевского, графа Соллогуба и Даля. В конце сороковых годов Второв перешел на службу в Воронеж.
Вместе с ним туда же перешел на службу его родственник и товарищ по университету К. О. Александров-Дольник. В Воронеже они оба ревностно принялись за изучение этнографии, истории и археологии края, занимались собиранием древних грамот, в результате чего получилось солидное издание “Воронежских актов” XVI и XVII столетий. Эта цель привлекла к ним много интеллигентных сил города. Скоро вокруг Второва и Дольника собрался кружок, в который входили люди разных поколений и профессий: чиновники, педагоги, студенты, купцы – словом, все, кто только хотел внести свою долю участия в изучение края, кто искал живого умственного дела, предпочитая его развлечениям светской жизни. “Все, что было в Воронеже мыслящего, Второв сумел собрать вокруг себя, сумел воодушевить и подвинуть на работу”. Этому много помогало обаяние его симпатичной личности, его благородный и обходительный характер. Кружок собирался в квартире Второва. Здесь происходило сближение с новыми людьми, кипели горячие споры, обсуждались разные вопросы, которые занимали тогда общество. Благодаря столичным знакомствам Второва его кружок находился в постоянных сношениях с московскими и петербургскими кружками, откуда, таким образом, не прекращался приток новых идей.
Одной из интересных личностей этого кружка был И. А. Придорогин. По происхождению сын воронежского купца, воспитанник Московского университета, поклонник Белинского и Грановского, это был один из “идеалистов сороковых годов” или, если угодно, один из тех “лишних людей”, которых так прекрасно изображал И. С. Тургенев (например в “Дворянском гнезде” в лице Михалевича). Вспомните:
Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как младенец душою я стал…
Я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.
В этом целая характеристика таких людей. Непрактичный, как и все идеалисты, до конца жизни не сумевший устроить свои дела, живший в кругу отвлеченностей, Придорогин всегда чем-нибудь увлекался, волновался, протестовал (за один из своих протестов против произвола местной администрации ему, между прочим, пришлось поплатиться арестом на гауптвахте). По образу мыслей он был либералом и отрицателем в духе тогдашней литературы, но, несмотря на злой язык, которого боялись некоторые, в сущности он был человеком с нежной и любящей душой, способным привязываться всем сердцем. Неудивительно, что он один из первых принял самое живое участие в судьбе поэта-дворника. В кружке Второва пылкий и увлекающийся Придорогин как бы противостоял самому Второву с его холодной деловитостью и вносил сюда свой энтузиазм и оживление. “Протестантом и радикалом, – говорит Де-Пуле, – он был страшным (конечно на словах), когда речь заходила о крепостном праве: чего-чего не говорил он тут, каких не сочинял ужасов. До 1857 г. почти ни одна наша беседа не обходилась без его горячих филиппик”.
Читать дальше