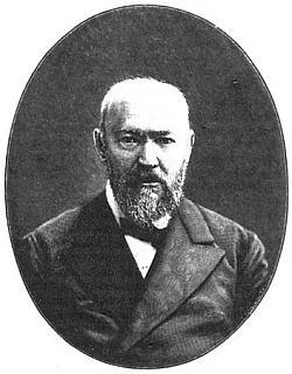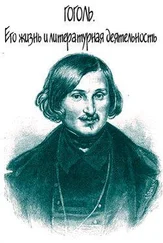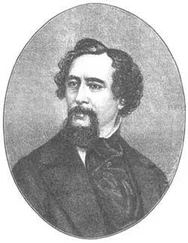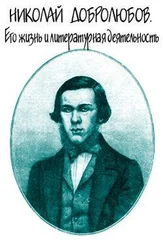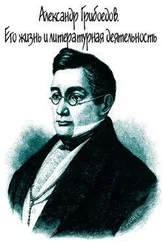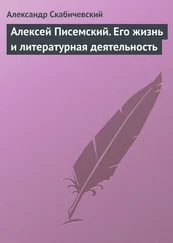Писарев разошелся с Добролюбовым в оценке личности Катерины – и на этот раз был прав: “личный развитой ум” действительно непременный признак светлой натуры. Катерина – только страстный темперамент, а не нравственная сила. Ее духовная жизнь загромождена ужасами и видениями, навеянными дикой болтовней странниц и кликуш. Она смотрит на мир сквозь густой туман суеверий и предрассудков “темного царства”. Она – законное детище этого царства, и только врожденная страстность мешает ей окончательно подчиниться родному самодурству. Страстность Катерины не лишена известной поэтической мечтательности, особенно в ранней молодости. Но женская любовная страсть, если она естественна и искренна, всегда поэтична, – что, конечно, вовсе не свидетельствует о какой-то исключительной натуре и светлой силе духа.
Сам Добролюбов говорит: Катерина не думает о сопротивлении, потому что не имеет достаточно оснований для этого. Совершенно справедливо!
И Катерина не только не противоречит основам темного царства, но даже доказывает их непреодолимую силу, и не одной своей смертью, а именно своим характером – чертами, прекрасно обозначенными самим критиком: “инстинктивностью своей натуры”, “боязнью за каждую свою мысль”. Можно считать Катерину сколь угодно симпатичной, – но нет никаких психологических и нравственных оснований говорить о каком-либо влиянии ее личности на просвещение темного царства.
Оно именно тем и страшно, что обладает громадной стихийной силой гасить в своей среде все искры и лучи.
Такой “луч”, несомненно, Кулигин, – но только потому, что он не принадлежит к расе темных людей, он другой породы. Все же исконные граждане самодурской страны только благодаря особо счастливым случайностям не кончают уродством и одичанием. Например, Андрей Титыч. Он гораздо светлее разумом, чем Катерина, он даже жаждет ученья, но тлетворное дыхание тьмы уже коснулось его: он неумолимый враг “стрюцких”, это в трезвом состоянии, а в пьяном, признается он сам, может вполне уподобиться тятеньке.
Брат его, тоже с человеческими задатками от природы, является уже безнадежно забитым и только кричит по-театральному. Вот какие “лучи” производит темное царство! И Андрей Титыч совершенно правильно ставит дилемму: или сделать что-нибудь над собой, или запить. Настроение по существу то самое, в каком находилась и Катерина, бросаясь в реку: у Андрея Титыча даже более сознательное и ясное, – но ведь не луч же он в темном царстве, а просто несчастный, пока еще вконец не изуродованный человек.
Можно сказать больше: и все наши герои – точно изуродованные, и мы даже знаем, чем и как. Островский представил всестороннюю картину векового общественного недуга. Вдумчивый, беспристрастно мыслящий и оригинальный в своем творчестве художник, он не ставил преднамеренных целей – и их незачем было ставить. Полнота умственного кругозора и глубина художественного проникновения в действительность непременно должны привести к идеям истинно гражданским и просветительным; раскрывая темные факты, наметить светлые идеалы; выставляя зло и невежество в их естественном виде, красноречиво защищать добро и просвещение. Надо быть только истинным и честным художником! И таким был Островский. Вполне последовательно литературную деятельность он слил с практической во имя все тех же просветительных целей. Практическая деятельность драматурга наглядно свидетельствовала о тех самых задачах, которые составляли существо и смысл его творчества , и Островский навсегда останется бессмертным образцом русского национального писателя – то есть художника-деятеля, писателя-гражданина.
И он сам вполне точно успел определить этот образец: как художник он, подобно Пушкину, “завещал искренность, самобытность, завещал каждому русскому писателю быть русским”, как гражданин он требовал, чтобы искусство “развивало народное самопознание и воспитывало сознательную любовь к отечеству”.
И Островский умер на своем посту, до конца храня заветные убеждения, составлявшие его душу.
Клевете, напраслине (Словарь В. Даля).