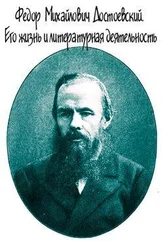Писарев рос один, постоянно окруженный взрослыми, которые то баловали его, то наказывали, то испытывали над ним различные системы воспитания; но товарищества он не знал до самой своей юности. А между тем и у него проявлялась потребность в сверстниках, с которыми он мог бы порезвиться и, быть может, даже подраться немного – в пределах, дозволенных à un enfant d'une bonne maison. [4]Расскажу по этому поводу комический эпизод. Матери однажды пришла фантазия потешить сына, исполнив его заветную мечту – иметь возле себя товарища, – и вот его сестру Веру одели в его же собственное платье, сделали ей косой пробор и представили в качестве нового брата Васи. Писарев пришел в восторг от этой новости, хотя превосходно видел, что никакого нового лица нет, а есть только переодевание; но девочка вошла в свою роль и стала более мальчиком, чем он сам, и обнаружила такое буйство, что ее снова пришлось обратить в сестру Верочку. Мистификация продолжалась, однако, дня три, и когда девочка появилась опять в своем платьице, Писарев залился горькими слезами и долго не мог утешиться от своей разбитой мечты. “Как только я подумаю, что Верочка уж больше не мальчик”, – восклицал он ежеминутно, а за этим восклицанием следовал новый поток горячих детских слез.
Вырастая на диалогах и всевозможных “экзерцициях”, вечно окруженный взрослыми, без товарищей и резвых игр, Писарев был ребенком очень вялым, физически слабым, серьезным не по летам и до смешного трусливым, зато почтительности и чисто пассивного повиновения в нем было столько, что их смело можно было сократить в несколько раз. Вот еще несколько эпизодов, достаточно ярко характеризующих будущего нигилиста и сокрушителя верований.
Писарев постоянно нюнил. Достаточно было самого незначительного повода, чтобы из его глаз полился обильный поток слез. Он плакал, когда его “обижала” маленькая сестра, плакал, когда кто-нибудь не соглашался признать его любимой куклы – какого-то безносого гусара – великолепною, плакал каждый день, достаточно красноречиво доказывая этим свою болезненную чувствительность. Эта же чувствительность, как результат физической дряблости, обусловливала и смешную, совершенно беспричинную трусость. Так, например, он до смерти боялся маленькой рыженькой собачонки Дурочки, безвреднейшего в мире существа, которое отличалось, однако, ярым задором. Лежит, бывало, Дурочка на своем месте, на мягком кресле, – входит маленький Писарев в комнату, долго вглядывается в собаку, и заметив, что та спит, крадется на цыпочках, чтобы не разбудить своего врага; но один неосторожный шаг – собачонка просыпается и с тем большим задором лает и кидается на ребенка, чем тише тот старается пройти; мальчик плачет и кричит от испуга. В таких случаях в ход событий вмешивался обыкновенно отец. Считая воспитание делом женским, он предоставил его исключительно жене, сохраняя, однако, за собой верховный надзор. Этот верховный надзор ограничивался, впрочем, преимущественно наказаниями, и зачастую в старинном барском доме раздавался умоляющий голос маленького Писарева: “Папа, секи, секи, только не больно!”
Секли, главным образом, за плаксивость, так как по части почтительности и повиновения Писарев смело мог быть поставлен в пример всем своим сверстникам. Читает он, например, историйку из детской книги под заглавием “L'enfant raisonneur”, [5]где рассказывается об испорченном мальчике, который на все приказания взрослых отвечал вопросами “зачем” да “почему” и – о ужас! – позволял себе вдаваться в самые неподходящие рассуждения. Писарев, пораженный уже самым заглавием, окончательно встал в тупик и долго приставал к матери с расспросами: “Mais, maman, est-ce qu'il y a de tels enfants, est-ce qu'on peut ne pas obéir, quand maman et papa ordonnent quelque chose?”. [6]До каких вообще “Геркулесовых столбов” доходило его послушание, можно судить по следующим примерам. Ребенку было не более 4-х лет в то время, когда мать повезла его в гости к каким-то родственникам. Мальчика стали ласкать и первым делом дали кусочек конфеты и ложку варенья в рот. Что было тут делать? Матери в комнате не случилось, а съесть что-нибудь сладкое без ее позволения Писарев считал совершенно невозможным; но, с другой стороны, лакомство предлагала “ma tante” и выказать явное непослушание такому крупному авторитету тоже не приходилось. Писарев избрал средний путь: взял что давали, но продержал варенье во рту до прихода матери, не решившись проглотить его иначе, как с разрешения “начальства”.
Читать дальше