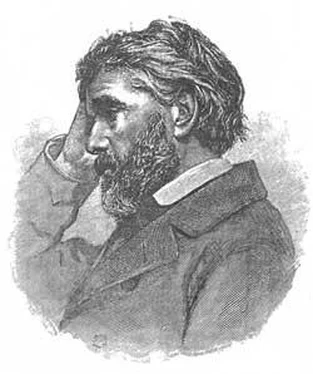Французская революция представляла прекрасный исторический пример. «Франция из всех современных народов – величайшая грешница… Она отвергла свет Реформации, она замучила своих Колиньи. Она предпочла жить в свое удовольствие и положилась на мишурный блеск своего Просвещения; она учинила подлог относительно религии, которой якобы придерживалась в то время, как в действительности не верила. Дворцы и замки ее утопали в роскоши и блеске, а когда бедный просил кусок хлеба, ему презрительно говорили, что он может питаться травой. Французское крестьянство выносило тиранию своих принцев и сеньоров, выносило терпеливо, пока терпение было возможно, и, как овца, подвергалось ежегодно стрижке на радость своего хозяина. Но обязанностям подданных соответствуют обязанности правителей. Наступает время, и аристократию, заправляющую делами, требуют к ответу… Аристократия оказывается лжеаристократией, духовенство – лжедуховенством; они не могут более оставаться у власти, их ниспровергают. К несчастью Франции, она отрекается и от всякой истинной аристократии, от истинного духовенства. Возникает новая вера, получающая затем повсеместное распространение, именно – что всякий человек сам свой правитель, сам свой учитель; все люди равны, и всем принадлежит одно и то же неотъемлемое право на свободу… Таково новое евангелие. Его пытались осуществить даже с помощью гильотины, но всеобщее блаженство не наступило. Дело в том, что первый шаг этого нового исповедания веры ложен. Люди вовсе не равны; между ними существует бесконечное неравенство. Французская революция вовсе не означает уничтожения различий и освобождения от авторитета вообще, так как авторитет мудрых и добрых над глупыми и плутами – первое условие всякого здорового человеческого общежития. Французская революция – это суд над великими преступниками, из поколения в поколение творившими неправду и преуспевавшими…» Такова основная мысль Карлейлевой «Истории». Она начинается рассказом о крахе развратного старого порядка; люди мечтают о свободе, которая должна принести с собою царство мира, счастья и всеобщей любви; призрачные надежды гибнут; наступает черед убийств, террора и гильотины как средств возродить человечество… Карлейлева «История», говорит Фроуд, была названа эпической, но это скорее Эсхилова драма, содержание которой до малейшего факта взято из самой действительности, драма, в которой еще раз появляются на нашей прозаической земле фурии и потрясают своими страшными змеями. Это цельное, органическое произведение, вышедшее как бы из рук самой природы; в нем ничего нельзя прибавить или изменить. Перед вами тянутся бесконечной вереницей вполне живые люди из плоти и крови. Карлейль умеет вызвать их из праха разных мемуаров и документов, и они неизгладимо запечатлеваются в вашей памяти. Необычайная драматическая сила соединяется у Карлейля с такою же любовью к истине, составляющей для него нравственный долг. Он не щадил труда и с немецкой обстоятельностью изучал всякую мелочь. Но все это попадает предварительно словно в гигантское пылающее горнило и оттуда уже бьет могучей струей чистого металла… И хотя вы не найдете здесь особенного обилия цитат и ссылок на источники, однако это единственная история революции, полученная нами, как выражается Гарнетт, из первых рук.
Но пока эта знаменитая книга печаталась, пока ее оценили, Карлейль все еще мог говорить: «Tout va bien ici, le pain mangue» … Нужно было позаботиться и о хлебе насущном. Одна знакомая предложила ему устроить публичные лекции. В интеллигентных кружках Лондона знали о Карлейле как о крайне своеобразном, но во всяком случае далеко не заурядном человеке. Подписка на лекции пошла довольно успешно, и в конце концов Карлейлю, несмотря на всю его нелюбовь к позированию, даже совершенно безобидному, пришлось выступить в роли публичного лектора. За три дня до лекции он пишет матери, что ему хотелось бы обратиться к публике с такой речью: «Добрые христиане! Я чувствую себя совершенно неспособным беседовать с вами о германской или какой-либо иной литературе или вообще о чем бы то ни было земном; об одном я буду просить вас: будьте настолько добры – посадите меня под бочку на эти шесть недель, а сами с миром идите своим путем…» На опасения одного знакомого, как бы он не начал свою речь словами: «Джентльмены и леди» (в обратном порядке) и тем не испортил всего дела, Джейн насмешливо заметила: «Вероятнее всего, он начнет так: „Мужчины и женщины“, или даже: „Глупые твари, собравшиеся сюда ради развлечения“…» Однако все обошлось благополучно. Карлейль прочел шесть лекций и имел большой успех. Вообще он умел говорить и в гостиных составлял обыкновенно центр, около которого толпились все. Обычная в начале неровность и нервное возбуждение скоро проходили; он говорил спокойно, хотя всегда образно, сильно; в его речи всегда слышалась страшная убежденность, и чувствовалось, что в нем остается много невысказанного.
Читать дальше