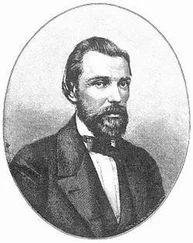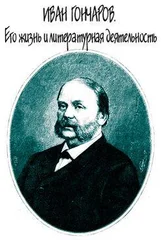Идеология общественных мечтателей или крайних «реалистов» не находила никакого отголоска в мыслях Шекспира. Доказательство – та же Буря. Здесь жестоко осмеян «золотой век» коммунистов, вообще «уравнителей» земных благ и математически точных и справедливых «распределителей» земного счастья. Такая же участь постигла бы и современных теоретиков противоположного направления. Шекспир не был ни аристократом, ни демократом – в смысле политического идеала. В Кориолане он гораздо глубже проник в сословный эгоизм благородной касты, чем это мог бы сделать самый народнический оратор, в исторических драмах не забыл указать на йоменов как основу английского могущества и – во времена смут – представителей здравого смысла и национальной устойчивости. В этом направлении, именно в английской истории, он мог бы пойти и дальше, но и такие идеи отнюдь не дают оснований считать Шекспира творцом Калибана-народа…
Буря, конечно, также заканчивается к полному удовольствию героев и героинь. Поэту во что бы то ни стало нужен такой исход. Он будто отдыхает на прихотливой игре своего воображения, – так впоследствии и Мольер после Мизантропа, Тартюфа и Дон Жуана вернется к мотивам молодости и примется за фарсы. Относительно Шекспира мы можем указать еще более любопытную черту, характеризующую досужее, игривое творчество заслуженного и отчасти уставшего поэта.
Он не только сливает в одной и той же пьесе историю, легенду и личный вымысел – например в Цимбелине, – но беспрестанно впутывает в события чудеса, сводит на сцену Юпитера, призывает духов, делает все что вздумается с законами времени, пространства и естественными явлениями. Мало этого. Поэт будто забывает эпизоды пьесы или нарочно впадает в противоречия: в Цимбелине перед нами две совершенно различные истории одного и того же факта – заклада Иоахимо и Постума… Может быть, все эти пьесы и возникали отрывками, через большие промежутки времени. Занятый обширным хозяйством, постоянно отлучаясь в Лондон, поэт не всегда находил досуг для литературы. Оставить же ее совершенно не мог: настоящий художник остается им до последнего издыхания! И вот этими перерывами, вероятно, объясняются противоречия, а главное – изумительно многочисленные отрывочные сцены, беспрестанные перемены декораций. Шекспир и раньше не стеснялся на этот счет, но решительно ни одна прежняя пьеса не может здесь соперничать с тем же Цимбелином.
Да, поэт сознавал, что все возможное и великое он совершил, и, может быть, в Эпилоге к Буре, в этой сердечной речи мудрого Просперо, звучат отголоски личного настроения гениального творца стольких чудес поэзии и мысли:
Исчезли все мои очарованья,
Мало сил осталось у меня:
Хоть и мое те силы достоянье,
Но знаю я, – немного в них огня…
Немного – для Шекспира и на шекспировскую меру! Но сознание исполненного жизненного назначения одинаково радостно должно было освещать мирным «вечерним светом» последние дни и героя, и самого поэта.
Перед нами опять темное предание и об этих днях. 10 февраля Шекспир выдавал замуж свою вторую дочь, а всего десять недель спустя, 23 апреля, последовала его смерть. [6]Предание, по-видимому, связывает эти события, и неожиданно скорую кончину поэта приписывают попойке в компании с товарищами-писателями – Дрейтоном и Беном Джонсоном. Приятели могли прибыть в Стратфорд на свадьбу Джудит, и, естественно, Шекспир счел долгом угостить их на славу. При подобных встречах со старинными друзьями многое вспоминается, многое давно заглохшее и замолчавшее вновь оживает. А ведь Шекспир в беседе – sufflaminandus erat, по выражению того же Джонсона, речь его лилась неудержимо, и огонь остроумия слепил и смущал тяжеловесных господ вроде ученого соревнователя нашего поэта… Разве когда-либо могла угаснуть эта способность воспламеняться и разве она не должна была проснуться невольно на семейном пиршестве, в кругу друзей, свидетелей стольких невзгод и, наконец, победы и славы?..
И предание, может быть, право. Поэт мог увлечься пиром. Но не вино свело его в могилу: для этого промежуток от свадьбы до смерти все-таки слишком велик. В Стратфорде весьма легко было умереть и без экстренных излишеств. В городке беспрестанно свирепствовали эпидемии, и мы видели, что Шекспир только чудом уцелел в детстве от моровой язвы. Более ста лет спустя по смерти поэта Гаррик изображал Стратфорд, по части опрятности и гигиены, в самых безнадежных красках. Лихорадки никогда окончательно не покидали обывателей, и Шекспир, конечно, не пользовался привилегией…
Читать дальше