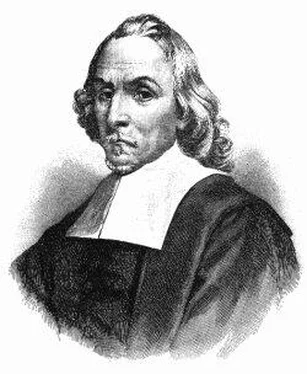Следы этого миросозерцания мы находим и в ученых трактатах Гарвея.
«Природа всегда все делает к лучшему… Совершенная природа ничего не создает бесцельно», – подобные выражения встречаются у него нередко.
Но, вообще говоря, он строго отделял свои философствования от ученых исследований, и, как уже пояснено выше, книга о кровообращении – образец строгого научного метода. Правда, и в ней попадаются иногда фразы о разумной и совершенной природе, но это только манера, способ выражения, красоты слога; автор не придает им значения реальных научных положений, на которых можно что-нибудь строить.
Строгий, скептический ум, не примирявшийся с кажущимся знанием, вносимым в научную область метафизическими представлениями, проявляется и в отношении Гарвея к «духам», игравшим такую важную роль в тогдашней физиологии.
«Мнения об их взаимодействии с нашим телом (существуют ли они независимо от крови и твердых частей или соединены с ними) так разнообразны и противоречивы, что это учение о духах служит только обычным убежищем невежества. Их пускают в ход во всех необъяснимых случаях, как плохие поэты выдвигают на сцену богов, когда нужно распутать интригу и привести к развязке».
В книге «О рождении животных» уже гораздо большую роль играют и рассуждения о божественной природе, и бездоказательные, априорные положения вроде представления о «заразе», сообщаемой самцом самке; но тут и авторитет прежних исследователей, Аристотеля и Фабриция, гораздо сильнее тяготеет над Гарвеем, чем в книге о кровообращении. Вообще, как уже сказано, мы не замечаем в этой книге той смелости, оригинальности, уверенности, соединенной с ясным, трезвым, светлым умом, кои характеризуют трактат о кровообращении. Кажется, будто сам автор смущен недостатком фактических данных и часто в нерешимости и колебаниях топчется на одном месте, или укрывается под защиту своих предшественников, или пытается воспарить к небу на крыльях сомнительных гипотез вместо того, чтобы идти по твердому пути опыта и наблюдения. Это объясняется как недостатком фактов, так, вероятно, и преклонным возрастом Гарвея.
Последнее обстоятельство повлияло также и на его отношение к открытиям Азелли, Пеке и других, о чем стоит сказать здесь несколько слов.
По учению древних, пища из кишок поступает в брыжеечные вены, по которым достигает печени, где и превращается в кровь. Отсюда вены разносят ее по всему телу.
Первый удар этому воззрению нанес Азелли, открывший (в 1627 году) млечные сосуды. Но Азелли думал, что млечные сосуды переносят хил в печень, где он и превращается в кровь.
В 1641 году Пеке пополнил открытие Азелли, проследив млечные сосуды до их соединения в общем резервуаре, так называемом Пекетовом вместилище, откуда хил изливается через грудной проток в правую подключичную вену.
Наконец, в 1650 году Рудбек и в 1651-м Бартолин завершили исследование хилоносной системы открытием лимфатических сосудов.
Таким образом, удалось проследить движение пищи от начала до конца, до превращения ее в кровь. Галеновское учение о печени как месте изготовления крови было уничтожено, и Бартолин даже сочинил по поводу этого «развенчания печени» шуточную латинскую эпитафию, возбудившую великое негодование в лагере правоверных галенистов.
Заметим, что Пеке и Бартолин были защитниками гарвеевского открытия.
Это исследование хилоносной системы, начатое Азелли, законченное Бартолином, представляет второе великое приобретение XVII века в области физиологии. Первое – кровообращение – принадлежит всецело Гарвею.
Но Гарвей отнесся скептически к открытиям Азелли и его преемников, за что и подвергся укоризнам: вот, мол, сам жаловался на нападки обскурантов, а следует их же примеру относительно других новаторов.
Но его отношение к новым открытиям резко отличается от отношения к нему разного рода риоланов и примрозов.
Не говоря уже о злобных выходках, о величании своих врагов «шарлатанами», «выскочками» и тому подобном, в его замечаниях по поводу открытия млечных сосудов мы не находим и тени того пошлого самомнения и заносчивости, которые характеризовали его противников.
Он никогда не ссылается на авторитет своего имени. Он откровенно сознается, что не имел времени основательно изучить этот предмет «как по своему старческому возрасту, так и по недостатку спокойствия духа вследствие смут, волнующих Англию», что поэтому он не считает себя компетентным в суждении о таком сложном и тонком вопросе, не придает своему мнению значения безусловной истины, но считает нелишним высказать несколько соображений, которые, как ему кажется, противоречат новым открытиям. «Во всяком случае, я не сомневаюсь, – прибавляет он, – что много вещей еще не известных нам будут мало-помалу выведены на свет Божий неустанной работой грядущих веков».
Читать дальше