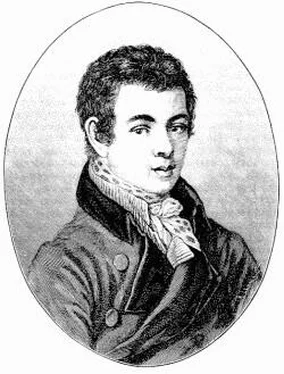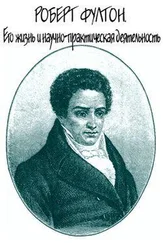Записка, составленная Каразиным в ответ на указанное требование Александра I, состоит из нескольких тетрадей, которые он немедленно представлял графу Кочубею по мере написания их. Это – спешный, на скорую руку составленный, лишенный всякого плана и довольно бессвязный труд, оставшийся к тому же неоконченным.
Выше мы уже пользовались запиской 1820 года для характеристики политических воззрений Каразина, хотя, к сожалению, относящиеся сюда места были большей частью выпущены при напечатании записки в «Русской старине», так что воззрения Каразина продолжают оставаться далеко не вполне выясненными. По счастью, те места, которые относятся к изображению тогдашнего положения России, опубликованы достаточно полно, и мы воспользуемся ими здесь. Эти места записки в высшей степени любопытны и как материал для знакомства с тогдашним положением вещей, и как свидетельства прямоты и гражданского мужества Каразина.
Прежде всего записка вооружается против религиозных гонений, поднятых тогда. «Не только все состояния народа, – пишет Каразин, – но все вероисповедания как будто нарочно оскорбляются и раздражаются в таком государстве, которое с незапамятных времен было образцом терпимости, и от имени такого государя, которому по сердцу его, мудрости и политике свойственно быть примером общего человеколюбия». В подтверждение сказанного Каразин приводит целый ряд фактов, вроде высылки Буссе за напечатание лютеранского гимна, назначения католического епископа против правил и желания католиков, оставления католических епархий без епископов, конфискации духовных имуществ, запрещения евреям держать христианскую прислугу, могущий служить только для «привязок низших чиновников полиции, которых алчности подобный закон может каждый день давать пишу», и т. д.
Осудив религиозные гонения, записка восстает и против покровительства мистицизма. Каразин категорически осуждает «направление умов к таинственности религии вместо простоты» и указывает на вредные последствия этого направления. Вместе с тем он вооружается против деятельности «Библейского общества», игравшего тогда такую видную роль в нашей общественной жизни. Он говорит: «Легко доказать, что о сю пору уже могло быть напечатано более книг Св. Писания, нежели сколько есть грамотных людей в России, которых число далеко не доходит до сотой доли народонаселения. С остальными же экземплярами что делать? Куда разойдутся, напр., 6000 экземпляров Евангелия на немецком языке и проч.?» Он восстает против того чрезвычайного значения, которое придавалось тогда распространению Библии – в чем видели спасение от всех бед.
«Сие чтение (Библии), – говорит Каразин, – одно не умножает добрых нравов. Доказательством тому наше духовенство, которое, по необходимости обращаясь с Библией каждый день, есть один из развращеннейших классов народа… Ежели государь удостоит меня употребить к составлению правдивой статистики империи, то между прочим, сличив сведения о числе преступников до введения сего подражания англичанам, с числом оных после (в то же число лет), надеюсь доказать решительно, что нравственность нисколько не поправилась сею мерою. К тому же в это дело замешались корыстные цели и злоупотребления. Общество или его комитет, имея о сю пору в обращении капитал, который может приносить верных процентов сто тысяч рублей, если не более, постоянно жалуется на недостаток средств… Одним из значительных неудобств от учреждения как сего библейского, так и человеколюбивого обществ есть похищение капиталов из внутренности империи, которая и без того слишком оными скудна в сравнении с всепоглощающею столицею».
Далее Каразин указывает на «вредную систему, которую ввели иностранцы в министерство финансов» и которая «ведет к государственному банкротству, обогащая только спекулянтов»; на «вредное направление, которое взяло просвещение» (система Магницкого и присных ему); на «подрыв привязанности к начальству войска и народа, совершаемый разными путями» (объяснение этому ниже – в словах по поводу истории в Семеновском полку); на «отношения поселян к их помещикам» (соответствующие места записки приведены выше, в главе V). Затем он подробно останавливается на злоупотреблениях, царивших тогда в морском министерстве, рисуя яркую картину хищничества и запустения. «Миллионы расхищаются без малейшей пользы для государства! – восклицает Каразин. – В главном порте и доке – в Кронштадте – развалившиеся здания и гниющие корабли. Эскадра, чтобы собраться, вынуждена заимствовать части оснащения одного корабля для другого. Зато матросов учат маршировать и тому подобным штукам».
Читать дальше