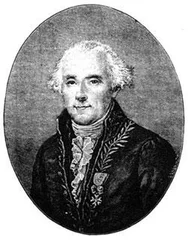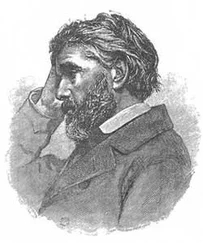Тот же Юм, не оставлявший в покое своего друга, приветствовал теперь его таким письмом: “Euge! Belle! Любезный мой Смит, я очень доволен Вашим трудом. Читая его, я освободился от тягостного беспокойства. На сочинение это возлагалась такая большая надежда и Вами самими, и Вашими друзьями, и публикой, что я трепетал при его появлении и теперь чувствую большое облегчение. Если я и сомневаюсь еще, чтобы оно сразу же стало самой популярной книгой, то только потому, что чтение ее обязательно требует большого внимания, а публика так мало склонна уделять его чему бы то ни было. Но книга Ваша отличается глубиной, основательностью, проницательностью, и в ней рассыпана такая масса примеров и любопытных фактов, что она должна, в конце концов, привлечь всеобщее внимание. Вы, вероятно, много исправили в ней во время Вашего последнего пребывания в Лондоне. Если бы Вы были теперь со мной, я поспорил бы с Вами относительно некоторых Ваших принципов. Я не могу согласиться, что поземельная рента входит составной частью в цену продуктов, и полагаю, что цена эта определяется исключительно количеством и спросом”. Далее Юм указывает еще на некоторые, по его мнению, погрешности и говорит, что обо всем этом, как и о сотне других вопросов, удобнее всего было бы побеседовать лично, что здоровье его быстро разрушается и он надеется, что Смит не откажется повидаться с ним. С первого пробуждения сознательной критической мысли, когда юноша Смит зачитывался “Трактатом о человеческой природе”, и до полного расцвета его гения, выразившегося в “Исследованиях о богатстве народов”, Юм, великий скептик XVIII века, поддерживает его и любовно следит за ним, как мать за своим сыном. Поддерживает и следит; нет, мало того. Вначале он наставляет и открывает перед своим юным другом целый новый мир мысли, а потом обсуждает и выясняет с ним вопросы, составившие предмет книги, ознаменовавшей собою наступление новых распорядков в экономической жизни народов. О Смите мы можем мыслить только в связи с Юмом; иначе его трудно себе представить. Тогда как обратного сказать нельзя. Теперь Смит достигал апогея своей известности, а Юм оканчивал свое земное поприще, – он умирал. Мы не погрешим против биографии Смита, если остановимся подольше на этом моменте; тем более, что тут возникает одно обстоятельство, имеющее большое значение и для характеристики самого Смита.
Смита, как мы знаем, готовили к духовному званию, но он отказался от мысли быть священником и пошел по другому пути. Каково было его дальнейшее отношение к англиканской церкви, не совсем ясно, да это и не представляет особенной важности, так как общий склад его воззрений сам собою обрисовывается из его произведений. Но бывают обстоятельства, когда человек должен поступить определенно и решительно, не стесняясь тем, что он может задеть кого-нибудь или что-нибудь и повредить своим интересам или репутации. В особенности такие поступки бывают нравственно обязательны в делах дружбы. Умирающий человек просит своего друга исполнить его предсмертную волю, а этот друг отказывается. Как отнестись к такому поступку? Нечто подобное именно и случилось со Смитом. Он испугался английских епископов и суеверий англиканской церкви и омрачил свою дружбу с великим человеком непозволительным поступком. Юм, умирая, хотел завещать Смиту издание своих известных “Диалогов”, которые он издал бы сам, как он писал в письме, если бы мог рассчитывать прожить еще несколько лет. Смит очевидно был недоволен таким поручением и требовал от Юма, чтобы тот предоставил на его усмотрение – издать или вовсе не издавать этой книги. Он намеревался сохранить рукопись “самым тщательным образом”, но не издавать ее, а перед своей смертью возвратить родственникам Юма. Конечно, это было не в интересах последнего, и он освободил Смита от столь тяжелого для него поручения. А между тем едва ли можно сомневаться, что Смит разделял взгляды, изложенные в упомянутых “Диалогах”. У человека хватило силы перевернуть экономическую политику европейских государств и не хватило храбрости пойти навстречу английскому “cant'y”, этому типичному образцу ханжества и святошества! “Диалоги” были изданы в 1779 году, то есть задолго еще до смерти Смита, и едва ли нужно прибавлять, что они нисколько не повредили интересам Юма; мы говорим, само собою понятно, не о материальных или каких-либо иных житейских интересах, не существовавших уже для великого мыслителя, а именно о тех непреходящих интересах истины, которые воодушевляют всякого мыслителя.
Читать дальше