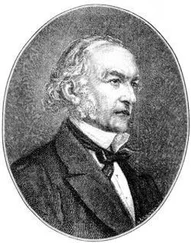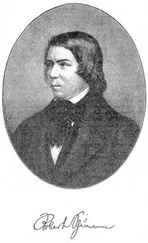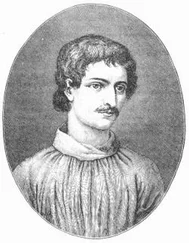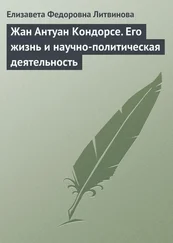Этот разговор вызвал у Меттерниха “глубокую грусть”, как он выражается в письме к эрцгерцогу Людовику.
В то самое время, когда Меттерних беседовал с королем, всего в нескольких десятках верст от них, в Лейпциге, происходили серьезные беспорядки.
Так беспокойно прошли 1846 и 1847 годы. Все верили в близость крупного переворота; вместе с другими высказывал это опасение и Меттерних. Вот что он писал в октябре 1847 года графу Анжио, австрийскому посланнику в Париже:
“Дорогой граф, я стар и опытен. Я глубоко убежден, что фазис, в котором находится теперь Европа, самый опасный из всех, какие приходилось переживать нашему обществу за последние шестьдесят лет”. Тот же самый пессимистический взгляд на будущее высказывает Меттерних и в Предсказаниях о 1848 годе. Здесь, между прочим, он говорит о новой опасности, которая угрожает Европе: кроме традиционного либерализма, появилась еще новая доктрина – радикализм. Под этим словом Меттерних понимает социальное движение, которое обнаружилось в Лионском восстании 1831 года, в чартизме и в успехе разных социалистических школ: Сен-Симона, Фурье, Оуэна и других.
Предчувствия не обманули Меттерниха. Революция вспыхнула, и, может быть, даже скорее, чем он сам предполагал. В продолжение одного месяца она охватила Италию, Францию и Германию.
В Париже снова была провозглашена республика и снова, к величайшему огорчению княгини Меттерних, слова братство, гражданин, свобода появились в официальных бумагах. Страх потерять власть возбудил в Меттернихе всю ненависть, на какую он был только способен, по отношению к революции, и он, несмотря на свои семьдесят пять лет, опять энергично берется за борьбу, и курьеры за курьерами с телеграммами и циркулярами отправляются из Вены во все столицы Европы.
Войдя в предварительное соглашение с Россией, он отправляет Англии протест против поддержки итальянской революции, оказанной Палмерстоном, который снова занял министерский пост. В этот момент Меттерних считал, что Австрия, по крайней мере, предохранена от революции, и, подобно лунатику, он шел возле самой пропасти, не отдавая себе в этом никакого отчета.
Оптимизм Меттерниха относительно Австрии был не совсем неоснователен. Из западных государств она была самая отсталая и косная во всех отношениях. В ее состав входили народности, различавшиеся одна от другой не только религией и расовыми особенностями, но и культурным уровнем. Вследствие этого Австрия была лишена того духовного единства и того национального самосознания, которые в то время явились самым сильным рычагом политического прогресса. Немцы, славяне, венгры, итальянцы – все эти народы жили отдельными интересами, не имевшими ничего общего и даже противоречившими одни другим. На почве этого антагонизма Меттерних и создавал систему своего деспотического управления. Австрийские подданные относились к его управлению равнодушно, исключая венгров, выступавших время от времени на защиту своих прав.
Так прошли двадцатые и тридцатые годы, но в сороковых Австрия также начинает оживать. Как ни медленно, но европейская культура вместе с развитием промышленности, торговли и земледелия делала в стране постоянные успехи и усиливала общественное значение бюргерского элемента. На смену старого, изнуренного войнами поколения пришли свежие и бодрые силы, более подготовленные к борьбе. Известную роль сыграли в политическом пробуждении Австрии и провинциальные сословные учреждения, которые Меттерних созывал время от времени для совещания по хозяйственным вопросам. Им было запрещено заниматься политическими делами, тем не менее отдельным членам этих учреждений нередко удавалось поднимать общегосударственные вопросы.
За тридцатилетнее существование система Меттерниха успела дать все свои горькие плоды. Она водворяла мир, но на развалинах; она приносила спокойствие, но ценою насилия и бесправия; она давала внешней политике Австрии блеск и силу, но доставалось все это путем разорения податного сословия.
Вследствие отсутствия гласности и общественного контроля государственная власть продолжала, как и при старом режиме, служить для личного обогащения чиновников. Сам Меттерних рассказывает, что его предшественник барон Тугут сопротивлялся в 1793 году объявлению войны французской республике, потому что все его состояние заключалось во французских государственных бумагах, которые упали бы в случае войны. Самого же Меттерниха обвиняли в том, что он, кроме поместий и замков, которые ему дарил император Франц, получал также подачки от России, Неаполя, Турции и так далее. Его ближайший сотрудник Генц, точно так же, пользуясь своим положением, пускался на разные финансовые спекуляции. Доказательством этого служат следующие строки дневника княгини Меттерних: “Я нахожу, что наш друг Генц в очень печальном настроении. Сегодня он нам говорил, что, предчувствуя свой близкий конец и не желая оставить на себе никакого пятна, приводит в порядок свои бумаги. Клеменс думает, не без основания, что он уничтожает некоторые компрометирующие письма, касающиеся финансовых операций”.
Читать дальше