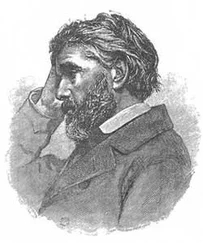Многие ставят в вину Богдану его дипломатическое двоедушие и даже криводушие. Мы думаем, что пристрастье к своим личным делам, от которого он не мог освободиться даже в вопросах величайшей общественной важности, имеет неизмеримо большее значение, чем эти якобы коварство и вероломство. Стоит только представить себе условия, при которых приходилось действовать Хмельницкому, чтобы понять всю пустоту подобных обвинений. Скажем больше – не обладай Богдан такими дипломатическими способностями, едва ли бы ему удалось совершить то, что он совершил. Обвиняют Хмельницкого, как будто бы все вокруг него были в прекраснодушном настроении и один только этот коварный казак пускался на хитрости, присягал, изменял, снова присягал и так без конца. Но кто были его враги и его союзники? Поляки, турки, татары, Москва. Поляки действительно не раз присылали Адама Киселя в качестве миротворца. Но кто же из казаков не понимал, что его красноречивые излияния означали просто временное бессилье шляхты и что какие бы договоры ни подписывались, поляки нарушат их, как только соберутся с силами? Поляки примирились бы искренне только на одном условии: на полном уничтожении казачества и на превращении всего русского народа в безгласных хлопов. Выдающийся поляк того времени Иеремия Вишневецкий не считал нужным скрывать этого. Таким образом, двоедушная дипломатия с поляками была прямым ответом на их двоедушную политику. Татары не знали другого закона, кроме грабежа, и всегда были на стороне того, кто мог привлечь их заманчивыми грабительскими перспективами. Они изменяли южноруссам в самый критический момент. И почему бы это Богдан Хмельницкий питал к ним какие-нибудь особенно лояльные чувства? Напротив, это был явный и злейший враг. По обстоятельствам времени и места из него временно удавалось сделать союзника, и союзник этот оказывался единственным; никакого выбора не представлялось; естественно, что Хмельницкий всеми силами старался поддерживать добрые отношения, глубоко затаив до лучших дней мысль о расплате за все опустошения, причиняемые Украине. Татары находились в зависимости от турецкого султана, и, чтобы иметь их на своей стороне, необходимо было поддерживать хорошие отношения с Турцией. Отсюда сношения с Турцией. В трудные минуты, когда союзники и якобы друзья, пользуясь обстоятельствами, раскрывали свои волчьи пасти, Хмельницкий готов был идти в подданство даже турецкому султану. Это была по тому времени страшно еретическая мысль: добровольно идти в подданство к непримиримому врагу всего христианского мира! Но, во-первых, мысль эта приходила Хмельницкому только в тех случаях, когда он попадал в ловушку, из которой не представлялось никакого другого выхода; во-вторых, в настоящее время мы видим, что даже завоеванные мечом народы не потеряли под турецким владычеством своей самобытности и на наших глазах возрождаются в самостоятельные государства. Так ли уж был недальновиден Богдан, как это представляется его недоброжелателям? Остается еще Москва. Но она, как известно, придерживалась тогда крайне нерешительной и медлительной политики по отношению к Малороссии; отношения же ее к покоренным княжествам и соседним государствам далеко не отличались в то время прямодушием. Известно, как настойчиво добивались казаки помощи от Москвы и как она под разными предлогами отказывала им; только когда рушились всякие надежды объединить польское и московское государства под главенством московского царя, оказалось возможным “нарушить крестное целование”, объявить войну полякам и принять казаков под “высокую государеву руку”. Смешно было бы ожидать от Хмельницкого открытой, что называется, честной политики, когда отношения не только между чуждыми народами, но и между родственными князьями всецело держались на подсиживанье, обмане, вероломстве и тому подобных прелестях грубой дипломатии XVII века. Богдан Хмельницкий не был религиозным или социальным реформатором. Он призван был освободить южнорусский народ от шляхетско-католической зависимости. При других условиях это освобождение могло бы совершиться и без нарушения единства польского государства. И как сам он был сыном своего времени, так и действовать он мог, пользуясь теми общественными силами и теми вообще приемами, какие были выработаны раньше его.
Другое дело его внутренняя политика, его отношение к интересам народной массы, которая, собственно, и доставила ему торжество. Двоедушия и вероломства здесь также не было, но была нерешительность, недостаточная определенность поступков, как бы даже непонимание, во имя чего восстало все это хлопство. Вынуждаемый обстоятельствами, он шел на компромиссы с поляками, заходившие иногда так далеко, что они теряли характер компромисса и превращались, казалось, в отступничество. Но не будем слишком строги к человеку, волей судеб поставленному в самом центре “ада кромешной злобы” и чувствовавшему временами свое полное бессилье укротить эти адские силы. Удушливые испарения польско-шляхетской культуры могли затуманить не такую голову.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу