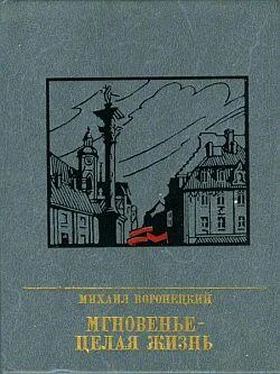И вот теперь всему этому неожиданно положен предел. Жаль, хотя почему же неожиданно?! Поздно или рано это должно было случиться. А уж коль случилось, то сообразно случившемуся и надо строить дальнейшую жизнь. Надо будет посмотреть, не удастся ли нащупать какие-либо связи с киевским подпольем. Киев под боком — не может быть, чтобы не подвернулся какой-нибудь подходящий повод проникнуть в здешние нелегальные сферы!
Родители не только не упрекнули Людвика за невольный уход из института, но, напротив, хотели бы, кажется, утешить его и оправдать, обвинив во всем петербургские власти.
— Не тужи, мать, — сказал отец, — если начальники невзлюбили Людвика, значит, из этого парня будет толк. По себе знаю, чем человек честнее, тем он неугодней начальникам.
— Да пропади они пропадом со своими институтами, — храбрилась мать, — как будто без этого человеку уже и жить невозможно.
«Браво, браво, дорогие мои предки! — думал Людвик, ласково глядя па своих стариков светло-серыми глазами и теребя тонкими нервными пальцами русую бородку. — Только уж если вы думаете, что я навсегда похороню себя здесь, то это совсем напрасно. Ради этого не стоило кашу заваривать».
А с противоположного конца стола, за которым завтракала многочисленная семья Варыньских, на Людвика, не мигая, смотрели круглые серые глаза невысокой девушки с каштановыми вьющимися волосами — домашней учительницы младших детей. Все называли ее Филипиной. За столом девушка не перекинулась с Людвиком ни одним словом, но по выражению ее глаз он понял, что она относится к нему с сочувствием и интересом.
А через некоторое время Филииина свела Людвика с киевскими социалистами.
Так буквально в первые же дни ссыльной жизни нащупал Людвик нужные связи.
Людвик под родительским кровом находился мало — то и дело уезжал в Киев. Иногда ходил с Филипиной Нласковицкой на завод в Кривде. Но все это было из категории «малых дел». Душа томилась по широкой деятельности, которая связывалась с Варшавой, и, как только представилась возможность, Варыньский уехал.
В Варшаве Людвик устроился на фабрику Дильпоп и Pay. Он трудился от темна до темна, постепенно привыкая к нечеловечески тяжелым условиям существования фабричного пролетария.
В один из вечеров он явился в свою комнатушку и застал в ней гостью, которую меньше всего мог здесь ожидать.
— Филипина! — обрадованно воскликнул Людвик. — Какими судьбами?
— Теми же самыми, какими и ты, — улыбнувшись, ответила гостья.
— Ну, вот и добре! Рассказывай, как там наши…
— Да что ж, все живы, здоровы. Просили кланяться тебе. Только я ведь уже давно из вашего дома.
— И что же ты тут делала?
— Живу в деревне недалеко от Варшавы. Работаю и школе. Учу крестьянских детей.
— Добре, добре, что ты приехала. У нас, знаешь, кружок тут составляется, человек тридцать собираются, но больше все народ темный…
— Это студенты университета — народ темный? — с нарочитым недоумением спросила Филинина.
— А что ты от них хочешь? Либо это маменькины сыночки, выросшие в больших квартирах за глухими портьерами, либо дети бедных дворян. Понятие о социализме почти такое же, как у ксендза. Но желание послужить народу велико. Надо их серьезно и упорно просвещать. Впрочем, два-три человека есть по-настоящему толковые. С ними-то прежде всего я и познакомлю тебя. Казимеж Плавиньский, Станислав Мендельсон…
— Ну и какую же цель ставит перед собой ваш кружок?
— Целей много. Но прежде всего, консолидация всех оппозиционных групп, а там на очереди… создание политической организации. Ну а если еще дальше заглянуть, то работы невпроворот. Организацию надо будет развивать, а для этого есть только один путь — пропаганда среди молодежи я рабочих. Да вот беда, Филипина… Нужна социалистическая литература на польском языке. А ее нет. Нужны переводчики, нужна типография, нужна своя газета…
— Не слишком ли много? — усмехнулась Филипина. — Для одной-то жизни?
— Если бы целой жизни! Поюсь, что все это придется провернуть за каких-нибудь два-три года. На большее не рассчитываю. Хорошо бы втянуть в это дело и тебя, Филипина.
— Меня?
— Да, тебя.
— Ну, что же, если ты считаешь, что я чем-то могу тебе помочь, я готова.
— Не мне, Филипина, не мне…
— А кому же еще?
— Польше.
Теперь Людвик не понаслышке, а на собственной шкуре познал нелегкую судьбу пролетарием. Это была тяжкая, почти немыслимая для людей жизнь. Большие семьи ютятся в тесных грязных комнатках-клетушках огромных рабочих казарм с непролазной грязью во дворах. В комнатах никакой мебели, вместо постелей охапка сена у стены. Скученность, полумрак, голодные, грязные, оборванные дети.
Читать дальше