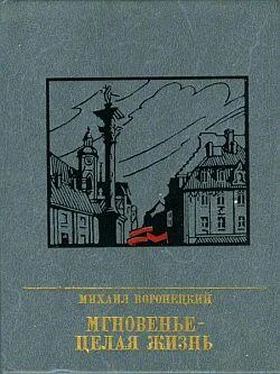Куницкий умолк, а напряженно молчавшие рабочие как-то сразу, одновременно вздохнули, вздохнули, как показалось Феликсу, облегченно, заулыбались, расслабились и закивали друг другу.
— Теперь вот к вам вместо меня будет постоянно приходить Стожек, — сказал Стась, перед тем как начали расходиться. Феликс ожидал, что рабочие, по крайней мере, поинтересуются, почему уходит такой опытный пропагандист, как Черный, а вместо него им подсовывают студентика-первокурсника. Но — удивительное дело! — никто словом не обмолвился и даже взглядом косым не выразил недоумения. Все теперь улыбались Стожеку так же, как только что улыбались Черному, и пожимали руку Стожеку так же сердечно, как Черному.
И тут Феликса озарило: да ведь рабочие смотрят на него не как на желторотого юнца, совсем им неизвестного, а как на представителя неотвратимо-грозной, все знающей, все учитывающей, все видящей и всех по заслугам оценивающей партии с ее Центральным комитетом. С этой минуты и до конца своей жизни и он, Феликс Кон, будет смотреть на себя как на одного из рядовых бойцов всемирной армии революционеров.
Выйдя из трактира, Куницкий и Кон пошли в Лазенковский парк.
— Ну вот, — сказал Куницкий, широко улыбаясь, — я вижу, ты всем им пришелся по душе, Стожек.
— Да, кажется, — сказал Феликс, отвечая улыбкой на улыбку. Но тут же вспомнил, что за весь вечер так и не успел сказать ни слова, смутился и добавил: — Они мне тоже.
Барановский без труда отыскал нужный адрес. После лекций в университете он не пообедал. Попросту сказать, забыл о еде — не до того. Теперь, подойдя к лавке гастрономических товаров, что на углу Галицкой, и увидев на вывеске пивные кружки, разрезанные окорока, халы, он вдруг почувствовал приступ голода…
Задний двор, куда выходила низенькая дверь, был неопрятен, заляпан мокрым снегом, перемешанным с грязью, в углу громоздились беспорядочно сваленные пустые ящики. Кинул взгляд на маленькие окна, завешенные желтыми занавесками, и приостановился. Душу, как клещами, схватила тоска. Вспомнилась почему-то прошлогодняя поездка к другу в деревню. Высокий дом на холме с террасой. Вечером из сада тянет теплом. Миндалем пахнет вянущий вьюнок. Ночью окна дома раскрыты настежь, ярко освещены, до садовой беседки доносятся звуки рояля. Боже мой! Вот она настоящая-то жизнь! Без революций, без предательств, без провокаций… Просто — жизнь. Просто — Польша…
По утрам, совсем рано, он пересекал сад, выходил на дамбу, шагал вдоль покосившихся плетней к деревне… Сейчас, зимой, там, за плетнями, за деревней, лежат бесконечные белые снега, блестят замерзшие пруды по обе стороны плотины, изо льда торчат желтые камыши… А ранней весной в сторону темнеющего на горизонте леса будет дуть сильный резкий ветер…
Все, все это теперь — не больше чем видение прошлого, невозвратного, недостижимого! Впереди — тьма…
Барановский без стука отворил дверь и оказался в маленькой низенькой комнатке. На стене — овчинный тулуп. У порога на полу — саквояж. Посреди комнатки — столик, застланный грязной скатертью. Янкулио, одетый крестьянином, сидел у столика, откинувшись на спинку стула, и курил. Улыбнулся, кивнул Барановскому, указав рукой на гвоздь, вбитый в стену у самого потолка, что означало приказание снять пальто и фуражку.
Появился хозяин, пожилой, худой, суетливый, забормотал испуганно, почти бессмысленно:
— Если панам угодно, могу предложить вишневку Бачевского, лимонад, кофе, пломбир…
Янкулио так глянул на хозяина лавки, что тот прикусил язык.
— Ты что, смеешься? Такому здоровяку кофе, пломбир?! Не видишь, юноша проголодался до крайней степени? Тяни бигос, гусятину, халы… ну и твою вишневку Бачевского понробуем.
Хозяин склонился в поклоне и мгновенно исчез. На Барановского он так и не глянул, и тот из этого заключил, что хозяин догадывается о роли пана студента и в душе презирает его.
Барановский молчал, борясь с покушением перегнуться через узенький столик, схватить Янкулио за длинную сухую шею и давить до тех пор, пока глаза его не вылезут из орбит. И был уверен, что товарищ прокурора даже никнуть не успел бы, не успел бы ни выстрелить, ни позвать на помощь переодетых жандармов, сидевших в общем зале… А в том, что Япкулио пришел «в сопровождении», Барановский не сомневался. Покончить бы разом — а там пусть убивают, пусть вешают: все равно ведь жизнь пропала — если жандармы пожалеют, так свои же прикончат, когда все вылезет наружу. А прикончи он сейчас Янкулио, глядишь, доброе имя сохранилось бы, а то и памятник после революции поставили бы!
Читать дальше