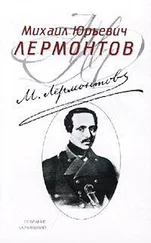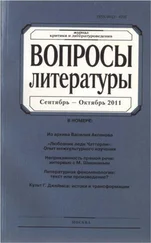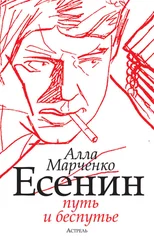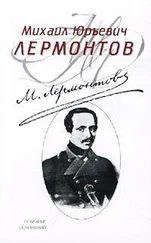1 ...5 6 7 9 10 11 ...200 По-видимому, с хлопотами о наследстве связаны и частые в первые годы вдовства поездки Елизаветы Алексеевны вместе с дочерью в село Васильевское – вотчину свекра. Когда заходила речь о жизненно важном деле, бабка поэта не считалась со своими чувствами – ни с симпатиями, ни с антипатиями, – если чувства эти не касались тех, кого она без памяти любила, то есть самых своих. Господа Арсеньевы после рокового маскарада 1810 года вычеркнуты из списка своих , но ладить с ними необходимо, чтобы выколотить из этих непрактичных людей все, что полагалось по закону вдове и дочери покойного.
Все это очень смахивает на скупость, можно употребить и более сильное слово – скаредность, и все-таки ни элементарной скупостью, ни боязнью одинокой вдовы упустить лишний кусок поведение Арсеньевой не объяснить.
Надлежало во что бы то ни стало устроить судьбу единственной дочери – не просто выдать ее замуж, а еще и оградить от брачных случайностей. Ведь и подумать жутко, сколько бродит вокруг да около бездельников, готовых в одночасье просвистеть и свое, и женино! Игроков, пустодомов да мотов! Ей ничего не нужно. Все, что у нее есть, – Машино. Но какая из дочери хозяйка? Вся в отца: одни химеры на уме и на сердце. Пусть уж лучше и движимое, и недвижимое остается в ее, по-столыпински надежных руках. У Столыпиных был редкостный на Руси талант – умение превращать бездоходные и захудалые имения в доходные и процветающие.
Происходили пензенские Столыпины из бедных муромских дворян (две крохотные деревеньки, двадцать душ крепостных). В семьях столь скудного достатка все, что касалось домашнего хозяйства, практиковалось по необходимости с усердием. По необходимости и детей, тем более мальчиков, воспитывали как работников. К десяти годам наследники мелкопоместные должны были и толк в обработке поля понимать, и цены на разные сорта хлеба знать, и лошадь уметь заложить – зимой в сани, в телегу летом.
Это уже потом муромские Столыпины в гору пошли: послепетровской России нужны были молодцы, годные ко всякому полезному делу. Прочные люди, взращенные на вольном деревенском воздухе, на скудных полумужицких хлебах, а не боярские недоросли, зараженные бледной немочью в душных хоромах. В деятелях нужда была, а не в трутнях. Недаром в этой семье по традиции нерушимо держался культ Великого Петра. Вот что писал о Петре I старший из братьев бабушки Лермонтова: «Куда мы ни взглянем, где ни ступим внутри нашего отечества, везде находим следы его трудов, его попечений, везде видим печать его гения».
Самым любимым детищем великого реформатора была регулярная армия, и ей также требовались кадры – солдаты гренадерской стати. Столыпины же и по этой части вроде как в своего легендарного земляка – Илью былинного – пошли: великаны в их роду не переводились.
Воспоминания пензенского чиновника донесли до нас забавный провинциальный анекдот. Отец Екатерины Сушковой (мисс Блэк-айз юношеской лирики Лермонтова), буян, игрок и придира, повздорил как-то с одним из братцев Елизаветы Арсеньевой и, чтобы дать пощечину, вынужден был, схватив стул, взобраться на него. Взбешенный гигант хотел было «смять его как козявку», да не тут-то было: юркий Сушков проскользнул меж столыпинских ног.
А вот еще один анекдот из столыпинской серии – о Дмитрии Аркадьевиче Столыпине: «Росту он был исполинского. Приезд его и посещения затруднялись иногда тем, что для него невозможно было приискать достаточного размера кровати. Но к этому он привык и искусно подставлял стулья, так что мог улечься без помехи».
«Исполинство» Столыпиных способствовало рождению полумифов. Граф С.Шереметев, вспоминая о Дмитрии Аркадьевиче, племяннике Арсеньевой и внуке Мордвинова, пишет: «Крымская война заставила его искать более деятельной боевой службы… На Черной речке он совершил подвиг: под градом пуль вынес на плечах своих в виду неприятельской линии тело убитого Веймарна. Французы, пораженные смелостью, при виде этого исполина, мерным шагом отступавшего с телом убитого генерала, прекратили пальбу, выражая одобрение. Это подвиг гомерический, напоминающий сказание об Аяксе…»
Судя по рассказу самого «исполина» («Из личных воспоминаний о Крымской войне»), подвиг был не совсем таким, как в легенде. Дмитрий Аркадьевич Столыпин действительно вынес тело своего начальника из-под неприятельского огня, но не один – с помощью нескольких рядовых. Не упоминает он в записках и о реакции французов. Однако появление легенды знаменательно: в стойком, «не неврастеническом мужестве» лучших представителей этого рода было нечто, поражающее воображение; в «неврастеническое время» оно вполне могло казаться «гомерическим».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу