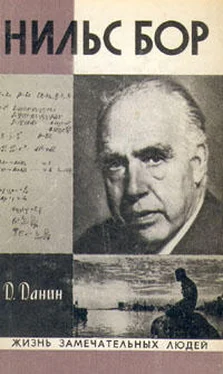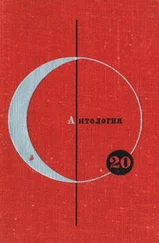А бывало по-другому…
Ньютон в своей Англии XVII столетья создавал систему мироздания тоже не под безоблачными небесами: родившийся в начале гражданской междоусобицы (1642), он стал современником мощных социальных потрясений и мучительных взрывов религиозной нетерпимости. Казнь короля, диктатура Кромвеля, реставрация Стюартов и многое другое случилось на его долгом веку. «Но политические бури, по-видимому, неглубоко отражались на жизни Ньютона» (С. Вавилов). Политические бури не утяжелили его духовной ноши — ни на фунт, ни на гран. Другой был характер? О да, другой: замкнутый, трудный, железный. Однако еще существенней другие были бури. За его голову враги не обещали 50 тысяч марок, и к нему не приходили друзья-коллеги за благословением на создание испепеляющей бомбы. Сама наука еще не доросла до ранга движущей силы истории. И пока не доросла, «быстрые разумом Невтоны» еще могли себе позволить не приглядываться к движению стрелки исторического барометра…
Свои слова о ноше Эйнштейна Бор диктовал уже после второй мировой войны — в заокеанском Принстоне 1948 года. Кровоточило прошлое — нацистское палачество. Страшило будущее — атомный шантаж. Обстоятельствам захотелось сложиться так, чтобы эти слова Бор отыскивал, работая с ассистентом в эйнштейновском кабинете Института высших исследований. Там все дышало судьбой, о которой он говорил. Да ведь это стало уже и его судьбой!
Не ньютоновский, а эйнштейновский вариант взаимоотношений с эпохой сужден был Бору.
Однако всего этого он еще не ведал на исходе 20-х годов, когда вынес на перевал свою ношу познания и получил право на мысль, что главное сделано. Да и кому бы пришло на ум, что дороги его науки в недалеком будущем пересекутся с тропой войны и жизнь подчинится трагическому развитию событий в политическом мире?! А к этому шло — все шло к этому. Но то, что не осознавалось тогда, отчетливо различимо из нынешнего далека. 30-е годы нашего века обозначились в жизни Бора как переходная пора: от науки к обществу.
То не было, как может показаться, временем отхода от науки и ухода в общественное служение. Старая миссия оставалась неотменимой. Новая вырастала из нее.
Влекут к себе подробности — в них плоть существования. И, пускаясь сквозь 30-е годы, надо еще чуть-чуть постоять на берегу 20-х, прежде чем навсегда разлучить с ними Бора.
…Весной 29-го года копенгагенцы разных стран впервые собрались в Копенгагене вместе. Не верится, что впервые, а меж тем это так. И все произошло непреднамеренно. Приближались пасхальные каникулы (время возвращения птиц в края их детства, где они однажды обрели крылатость). Многих, кто в недавнюю эпоху бури и натиска подолгу или короткими наездами работал в институте, вновь потянуло на Блегдамсвей. Не сговариваясь, они заранее уведомили Бора, что приедут в апреле. И тогда он решил, что это прекрасный повод собрать на семейную встречу по возможности всех «для живых и поучительных дискуссий». В марте разлетелись приглашения на юг и на север, на запад и восток.
Блаженное, как им чудилось, время было в преддверии 30-х годов.
Таким оно запомнилось двадцатипятилетнему бельгийцу Леону Розенфельду, который как раз тогда попросился к Бору в ученики. Он рассказал, как ему посчастливилось взглянуть на датскую землю в робком цветении весны и увидеть флаги, привычно развевающиеся на фасадах крытых соломою фермерских домиков, старомодные паромы и забавные трубы локомотивов. Он почувствовал непринужденность в повадках станционных служащих и местных пассажиров на красно-кирпичных полустанках, где поезд задерживался, никуда не спеша. И все это вместе создавало впечатление простодушной и нетребовательной сельской общины, замкнувшейся в своем хорошо защищенном маленьком мирке… А впечатление было поверхностным, защищенность — мнимой: подспудно уже зрели разрушительные потрясения близкой экономической депрессии начала 30-х годов.
«Ощущение старинного радушия, навеянное зрелищем сельской Дании, обострилось до крайности, когда мы приехали в Копенгаген. Нас ожидал на платформе сам Нильс Бор с компанией мальчуганов всевозможных размеров, очевидно его сыновей. Были с ним еще брат Харальд и оруженосец Клейн… В первый раз мне довелось обменяться рукопожатием с Бором. Он одарил меня широкой доброжелательной улыбкой и поразил той сердечной простотой, с какою равно встречал и старых друзей и новичков…»
Среди старых друзей были Дарвин, Крамерс, Паули, Крониг, Росселанд, Эренфест. А среди новичков — двадцатилетний Казимир, лейденский студент Эренфеста, запомнивший на всю жизнь, как учитель сказал ему еще в поезде:
Читать дальше