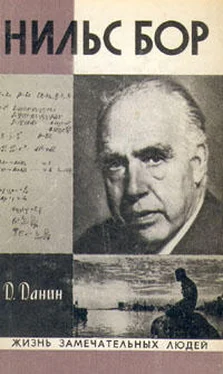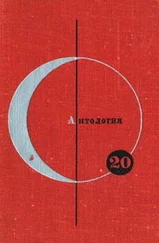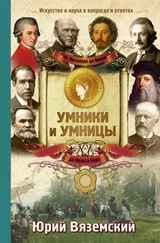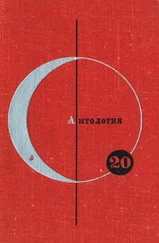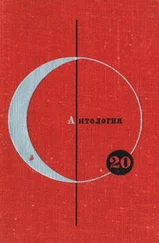В апреле, увидев простенькую формулу Гейзенберга для неустранимых неопределенностей, Эйнштейн испытал чувства той же силы, что Бор, но только противоположно направленные.
Вывод этой формулы был неопровержим. И он сразу понял: однозначная определенность событий теперь исчезала из физической картины мира безвозвратно. Но его чувство природы не смирилось. Да, Соотношение неопределенностей выведено из основ квантовой механики — и выведено хорошо! — однако еще остается вопрос: хороши ли сами эти основы? Разве доказано, что они с нужной ПОЛНОТОЙ отражают микрореальность?
Впрочем, психологически все было немножко сложнее. Он отлично видел, что с нужной полнотою квантовая механика микрособытия отражала: она находилась в замечательном согласии с опытом. Для критерия истинности словно бы и достаточно. Но ему еще хотелось полноты желанной. Искал удовлетворения иной критерий истинности — философско-эстетический. Эта желанная полнота мнилась ему в старинно-гармоническом идеале описания природы: в принципиальной возможности совершенно точных предсказаний хода вещей в микромире, как в макромире.
Желанен был Принцип определенности! И вот оттого-то, что из квантовых основ такой принцип никак не выводился, внутренний голос Эйнштейна отважился объявить эти основы недостаточно полными. Как и чем пополнить их, он не знал. Он поручал это будущему.
…Пройдет двадцать шесть лет, и в 1953 году, за два года до смерти, работая вместе с госпожою Кауфман над своей последней полемической статьей против основ квантовой механики, он снова напишет, что «это пока неизвестно», и снова поручит будущему достижение так и не достигнутой желанной полноты. До самого конца он не изменит своему классическому идеалу…
А в 27-м году, накануне 5-го Сольвея, полагая, что будущее вот-вот докажет его правоту, он почувствовал себя вправе заранее опротестовать Соотношение неопределенностей. За невозможностью прямой логической атаки он решил испробовать как бы экспериментальный путь: Гейзенберг с помощью гамма-микроскопа показал, что неопределенности неустранимы, а надо поискать другие мысленные эксперименты, где они, эти неопределенности, будут столь же неопровержимо сводиться к нулю.
К нулю, а не к конечному кванту действия h!
Тогда станет очевидно, что у микрообъектиков все-таки есть одновременно точно определимые координаты и скорости. Это-то и будет означать, что лишь из-за неполноты ее основ квантовой механике приходится довольствоваться вероятностными законами случая.
Он начал придумывать роковые мысленные эксперименты загодя. И загодя торжествовал: в его хитроумных конструкциях возникали неразрешимые парадоксы. Они разрешались при одном условии: если неопределенности можно сводить на нет. И не видно было, как сумеет даже проницательнейший Бор отыскать уязвимые пункты в таких разоблачительных, построениях.
С этим он и приехал в Брюссель. И потому победительно сияли его широко открытые глаза.
Он еще придумал, кроме парадоксов, маленький — не лишенный предусмотрительности — дипломатический ход: решил, что в первую же минуту, приступая к полемике по докладу Бора, заранее скромно отстранится от ответственности за странные выводы новорожденной механики микромира. И вот он, провозгласивший двадцать два года назад реальность световых квантов, а десять лет назад подчинивший статистическим законам квантовые скачки, он, Эйнштейн, во вступительной фразе сказал:
«Я должен принести извинения, что выступаю в дискуссии, не внеся существенного вклада в развитие квантовой механики!»
А может быть, он просто захотел чуть развеселить высокоученую аудиторию после утомительного доклада Бора? Если так, ему это мастерски удалось. Все развеселились. А дальше он заговорил…
(Даже Бор в подробной работе 49-го года «Дискуссии с Эйнштейном по проблемам теории познания в атомной физике» не изложил всего, что было. И в отчете конгресса не найти подробностей полемики на заседаниях, а уж о спорах в кулуарах там, естественно, нет ни слова.)
Все вспоминали: главное происходило в кулуарах. Но и на заседаниях было много памятного навсегда. Эйнштейн не оставался одиноким перед лицом копенгагенской школы. Вместе с ним против вероятностного мира квантовой механики протестовало большинство. Неважно, что оно делало это молча. Он непрерывно ощущал атмосферу поддержки. А трое из антикопенгагенского большинства, чьи суждения он высоко ценил, — Лоренц, Шредингер, де Бройль, — протестовали вслух, защищая, как и он, классическую причинность. Как и он, однако не вместе с ним: были тут свои тонкости.
Читать дальше