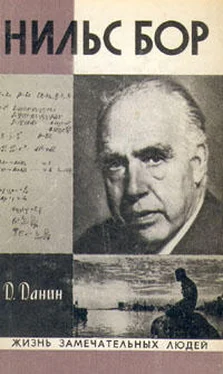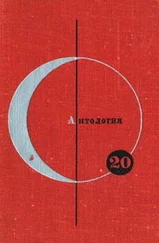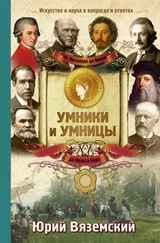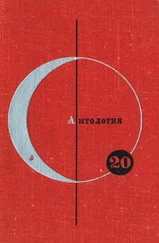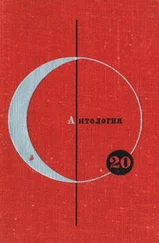И не стоит восклицать: да, но ведь они, эти измеренные значения, реально существуют и до измерения! Такое простодушное восклицание не имеет никакого смысла в физике наблюдаемых величин. Она скромно спросит: «А откуда вам это известно?» И у протестующего не найдется ответа.
Она, конечно, согласится, что электрон существует до и независимо от нашего измерения — иначе незачем было бы измерение затевать. Но без наблюдения она откажется судить, скажем, о точном месте его пребывания. И негодующе оспаривать ее позицию будет безрадостным занятием. Да ведь и в самом деле: электрон — это частица-волна — как же ответить с точностью, где он сейчас находится? Как частица — здесь. Как волна — везде. И надо провести опыт, чтобы он проявил бы себя как частица, дабы узнать его местоположение в этот момент.
Ничего подобного в классике не бывало!
…Так, надо сыграть матч, иначе в турнирной таблице не появится определенный счет. Имеет ли смысл утверждать, что он существовал еще до игры? Заранее можно говорить лишь о бесчисленных вариантах возможного счета. До игры реальны, хоть и не равны, вероятности любых исходов…
Не так ли и в новой механике?
На квадратных полях ее матриц — ее турнирных таблиц — записываются рассказы о вероятностях возможных в микромире событий. И только о вероятностях. Квантовая механика — это механика ВОЗМОЖНОГО, а не однозначно данного. Микромир предстает в ней как вероятностный мир!
Толпились еще и другие размышления — не строгие, но неизбежные. Мысль, как на привязи, ходила вокруг да около неправдоподобной и неисчерпаемой формулы АВ <> ВА. Точно стала она пропускным шлагбаумом из прежней механики в новую. И за шлагбаумом Бору все было по душе. Там все было своим — выстраданным его мыслью…
— Еще в 13-м году, вводя идею квантовых скачков, разве он не отказался описывать их во времени и пространстве?
— Еще в 18-м году, определив вероятности квантовых переходов как внутренне присущие им, разве он не заговорил о господстве случая в атомных событиях?
Все это теперь объединялось в единую систему представлений. Но когда он думал о новой механике, чувство говорило ему, что чего-то главного — всеохватывающего или, если угодно, всеоправдывающего! — квантовой механике все-таки пока недостает.
Может быть, только он один это и чувствовал.
И вот, отослав в декабре 25-го года в лондонскую Nature исправленную корректуру своего августовского доклада на конгрессе скандинавских математиков и высказав в последних строках напутствие-надежду, что будущее утешит всех сожалеющих о разрыве с традициями, Бор надолго покинул страницы научных журналов. Надолго — вплоть до этой длящейся на берегу Комо осени 27-го года.
4
Дальние могли подумать: не вышел ли он на перевал? Высшая точка пройдена, впереди — спокойное плато или медленный спуск с горы. Да и почему бы нет? Ему за сорок. Чаще частого это начало поры учительства без творчества. Начало пожизненной ренты опыта и авторитета. Копья скрещивают другие…
Но близкие-то знали, что все было не так.
Они знали, что на Блегдамсвей и в Тисвиле то была пора мучительных монологов с присказкой (в сторону ассистента): «Не надо записывать…» И столь же часто — пора дуэльных диалогов такой непримиримости, что в них чудом выживали дружеские привязанности, а нервные клетки не выживали. Пора без утешений.
Голос Паули:
— Ты бывал просто неузнаваем. Гейзенберг описывал мне твою прошлогоднюю встречу со Шредингером — ты вел себя предосудительней, чем я…
Голос Бора:
— Разве это возможно? Нет, я не говорил, как ты, «остеррайхише шлямперай», 10 10. «Австрийское неряшество» (Шредингер начинал в Вене, где был приват-доцентом до 1919 года).
я только отстаивал достигнутое понимание.
— Ах, жаль, меня тогда не было в Копенгагене!
— Ах, нет, не жаль! — слышится, как впервые не согласился Бор. — Для Шредингера это было бы слишком…
Знакомое прежде немногим физикам имя цюрихского профессора Эрвина Шредингера стало к середине 26-го года широкоизвестным ученому миру благодаря его четырем публикациям в немецких Annalen der Physik. Над первой из них он работал уже на исходе 25-го года — в те дни, Когда Бор писал о неминуемом ограничении старых способов описания природы. Но история любит пошучивать: открытие цюрихского теоретика шло словно бы вразрез с этим прогнозом.
И в скольких душах поднялось ликование!
Зачем печали отхода от обычных способов описания? Вся прелесть работы Шредингера в том и состояла, что для механики микромира нашелся давно испытанный математический аппарат. В третьей публикации появился привлекательный термин — ВОЛНОВАЯ МЕХАНИКА. Это было гораздо милее, чем МАТРИЧНАЯ. Вызывала энтузиазм обжитая математика волновых явлений: что-то непрерывно менялось от точки к точке и от мгновенья к мгновенью, как то бывало всегда в классической картине природы. Это «что-то», названное Шредингером греческой буквой «пси», описывало состояние и поведение микросистем. Оно еще нуждалось в физическом истолковании, это шредингеровское «что-то», но уже само рождение такой механики было логично, раз де Бройль доказательно ввел идею неких волн материи. Их длина для тел большого мира сводилась к нулю. Зато в микромире волны материи по длине становились сопоставимы с размерами атомов и электронов.
Читать дальше