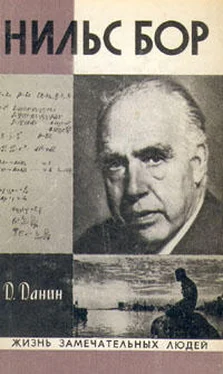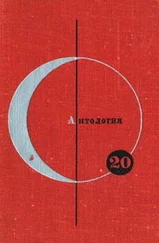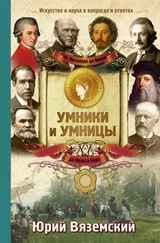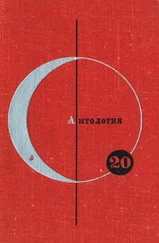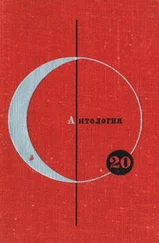А был еще другой вариант безнадежности, всего откровенней высказанный былым манчестерцем Дарвином. Три года назад Бор получил от него письмо, отразившее профессиональное беспокойство математика из-за логических провалов в квантовых построениях:
«Я хотел бы, чтобы жив был Анри Пуанкаре, ибо уж он-то смог бы найти нужную аргументацию как никто другой».
В свое время Резерфорд слышал те же слова от химиков, когда мучился над теорией радиоактивного распада: вот кабы Ньютон взялся за дело, уж ему-то все удалось бы! Резерфорда это повергало в ярость. А представить в ярости Бора не сумела бы даже Маргарет. Но что могло быть бесплодней, чем передоверять будущее прошлому и тужить о возможностях, якобы упущенных историей? Бору оставалось промолчать — не без горечи и досады: давний друг не понимал его надежд. Дарвин был растерян.
Чуждое этих крайних вариантов отступничества, умонастроение Бора само являло собою крайность. Ни беспечности, ни безнадежности, ни растерянности. Вера в близкий успех! И вера особого свойства: желанное будущее, которое принесет понимание непонятного, рисовалось Бору завтрашним днем его собственной мысли.
Не другим, а себе препоручал он создание философии квантов. И не потому, что в других верил меньше, чем в себя. Просто он не мог жить НЕ ПОНИМАЯ. Отказ от собственных ПОПЫТОК ПОНЯТЬ грозил бы ему душевным разладом.
Это непросто — быть редкой птицей.
Все минувшие годы — с той поры, как пошли гулять по семинарам и лабораториям, статьям и конгрессам его неклассические идеи стационарных состояний (отчего они возможны?) и квантовых скачков (а что это такое?), — он постоянно чувствовал себя в ответе за последствия своей решимости. И потому не уставал принимать все вызовы, какие бросала его атомной модели физика микромира. Началось со сдвоенного резерфордовского вызова — объяснить эффекты Зеемана и Штарка. А нынешним, очередным, был вызов Урбэна и Довийе — история с 72-м элементом. Но и девять лет назад, и сейчас — тогда, когда окружающим думалось, что он целиком погружен в треволнения конкретной задачи, — мысль его самом деле держала ответ перед диалектикой природы и диалектикой познания.
Был — на выбор — обыкновенный денек той осени. (пятница — 22 сентября). В институте никто не усомнился, что директор с головой поглощен проблемой 72-го. Когда ему звонили по телефону — мать, приглашая на обед в воскресенье; тетя Ханна с неотложным наставлением; Харальд, чтобы справиться, как дела; секретарь Шведской академии из Стокгольма с многообещающим интересом к его биографии, — Бетти Шульц всякий раз хорошо знала, где найти профессора. И даже шестилетний Кристиан, бегая по институтским коридорам, мог точно сообщить любопытствующим: «Папа у дяди Хевеши и дяди Костера!» Обязательно там! Меж тем на столе у папы лежали типографские гранки нового издания «Формальной логики» Харальда Хеффдинга: тот прислал их давнему ученику для критического просмотра. И когда Бор нашел час, чтобы усесться за ответное письмо своему учителю философии, в том, что он писал ему, не было ни малейшей видимой связи с поисками недостающего химического элемента. Он писал о главном, что привычно владело его мыслями.
22 сентября 1922 года
…Мы столкнулись с трудностями, которые лежат так глубоко, что у нас нет представления о пути, ведущем к их преодолению; в согласии с моим взглядом на вещи эти трудности по природе своей таковы, что они едва ли оставляют нам право надеяться, будто мы сумеем и в атомном мире строить описание событий во времени и пространстве на тот же лад, на какой это делалось нами обычно до сих пор.
Слова выстраивались вдоль обрывистой грани, где физика непреднамеренно превращается в философию. —» Ко всему еще не понятому прибавилось решающее Подозрение: а может быть, в микромире вообще теряет смысл веками испытанный способ пространственно-временного описания физических процессов? Может быть, для того, чтобы уловить закономерности микромира и перестать удивляться квантовым странностям, надо совсем по-иному, чем в макромире, вертеть координатами и скоростями атомных частиц, причинами и следствиями атомных событий? Если так, то чем заместить прежний опыт? Недаром на геттингенской горе сказал он юному Гейзенбергу, что физикам еще придется узнать, каков реальный смысл самого слова ПОНИМАНИЕ!
…С этими-то медленно и трудно вызревавшими мыслями двигался он сквозь тот обыкновенный сентябрьский денек, чтобы выразить их — кажется, впервые так отчетливо — на листе бумаги. В частном письме. И не к физику-коллеге, а к философу.
Читать дальше