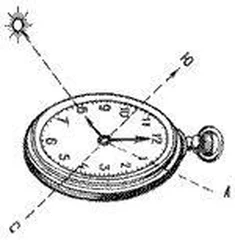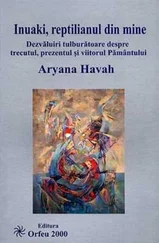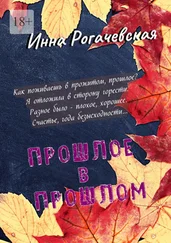Хава Владимировна Волович
О прошлом
...Человеческое право, достоинство, гордость — все было уничтожено. Одного не могли уничтожить селекционеры дьявола: полового влечения. Несмотря на запреты, карцер, голод и унижения, оно жило и процветало гораздо откровенней и непосредственней, чем на свободе. То, над чем человек на свободе, может быть, сто раз задумался бы, здесь совершалось запросто, как у бродячих кошек. Нет, это не был разврат публичного дома. Здесь была настоящая, «законная» любовь, с верностью, ревностью, страданиями, болью разлуки и страшной «вершиной любви» — рождением детей.
Прекрасная и страшная штука — инстинкт деторождения. Прекрасная, когда для принятия в мир нового человека созданы все условия, и ужасная, если еще до своего рождения он обречен на муки. Но люди с отупевшим рассудком не особенно задумывались над судьбой своего потомства. Просто до безумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хотелось ребенка — существа самого родного и близкого, за которое не жаль бы отдать жизнь. Я держалась сравнительно долго. Но так нужна, так желанна была родная рука, чтобы можно было хоть слегка на нее опереться в этом многолетнем одиночестве, угнетении и унижении, на которые человек был обречен.
Таких рук было протянуто немало, из них я выбрала не самую лучшую. А результатом была ангелоподобная, с золотыми кудряшками девочка, которую я назвала Элеонорой.
Она родилась не в сангородке, а на отдаленном глухом лагпункте. Нас было три мамы. Нам выделили небольшую комнатку в бараке. Клопы здесь сыпались с потолка и со стен, как песок. Все ночи напролет мы обирали их с детей. А днем — на работу, поручив малышей какой-нибудь актированной старушке, которая съедала оставленную детям еду. Как я уже говорила, я не верила ни в Бога, ни в черта. Но в пору своего материнства я страстно, исступленно хотела, чтобы Бог был. Чтобы жаркой, униженной, рабской молитвой было у кого выпросить счастья и спасенья для своего дитяти, пусть даже ценой любого наказания и муки для себя.
Целый год я ночами стояла у постельки ребенка, обирала клопов и молилась. Молилась, чтобы Бог продлил мои муки хоть на сто лет, но не разлучал с дочкой. Чтобы пусть нищей, пусть калекой выпустил из заключения вместе с ней. Чтобы я могла, ползая в ногах у людей и выпрашивая подаяние, вырастить и воспитать ее. Но Бог не откликнулся на мои молитвы. Едва только ребенок стал ходить, едва только я услышала от него первые, ласкающие слух, такие чудесные слова: «мама», «мамыця», как нас в зимнюю стужу, одетых в отрепья, посадили в теплушку и повезли в «мамочный» лагерь, где моя ангелоподобная толстушка с золотыми кудряшками вскоре превратилась в бледненькую тень с синими кругами под глазами и запекшимися губками.
Меня послали на лесоповал. В первый день работы на меня повалилась огромная сухостоина. Я видела, как она падает, но ноги отнялись и я не могла сдвинуться с места. Рядом торчали корни большого, вывороченного бурей дерева, и я инстинктивно присела за ним. Сосна повалилась почти рядом, не задев ни единым сучком. Едва только я выбралась из своего укрытия, подбежал бригадир и закричал, что ему растяпы в бригаде не нужны, что он не хочет отвечать за каких-то кретинок. Я равнодушно слушала его брань, а мысли мои были далеки и от сосны, чуть меня не убившей, и от лесоповала, и от бригадировой ругани. Они витали у кроватки моей тоскующей девочки.

На следующий день меня посадили на мехпилу, у самой зоны лагеря. Целую зиму я сидела на мерзлом чурбаке и нажимала на ручку пилы. Простудила мочевой пузырь, нажила боли в пояснице, но благодарила судьбу: каждый день я могла отнести в группу вязанку дров, за что меня пускали к дочке помимо обычных свиданий. Иногда надзиратели на вахте отбирали дрова для себя, причиняя мне огромное горе. Вид у меня в те времена был самый разнесчастный и забитый. Чтобы не развести вшей (этого добра было тогда в лагерях достаточно), я остриглась наголо, а на такое редкая женщина пошла бы добровольно. Ватные брюки я снимала, только отправляясь на свидание с дочкой. Во время одного такого свидания я обратила внимание на женщину, одетую нисколько не лучше меня, но с броской внешностью. Шапка черных кудрей венчала голову. На щеках полыхал яркий румянец. Лицо так и лучилось молодостью и здоровьем. Но глаза, жгуче-черные, глядели рассеянно, временами заволакиваясь дымкой, как у дремлющего цыпленка. Мы разговорились. Оказалось, что она навещает ребенка своей подруги, отправленной на другой лагпункт, присматривает и заботится о нем, как родная мать. И еще оказалось, что за ее цветущей внешностью прячется недуг, засевший в мозгу со дня ареста. Этот недуг уже не раз упрятывал ее в психлечебницу. Она говорила с каким-то симпатичным акцентом:
Читать дальше