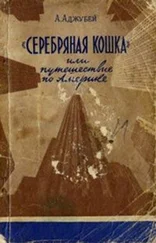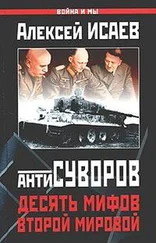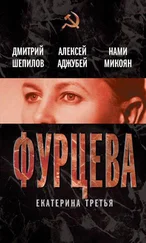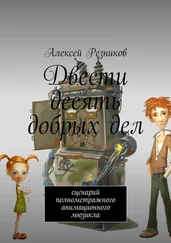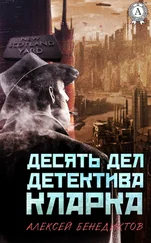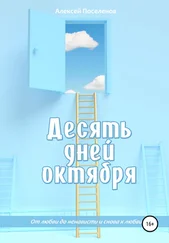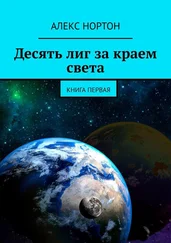И вдруг я почувствовал, что у Подгорного пропал всякий интерес к теме нашего разговора. Он свернул бумагу. «Да, тут какая-то ерунда. Разберемся после, я уезжаю в Молдавию…» На вопрос, что мне ответить Хрущеву, Подгорный решительно предостерег: «Не звони ему, я сам все объясню…»
Вернувшись в редакцию, я позвонил Семичастному. Сведения, которые сообщил мне Подгорный, исходили от одного из «доброжелателей», работавших по его ведомству. Семичастный был смущен, говорил что-то невразумительное, а на мой прямой вопрос: отчего эти сведения дошли до Москвы спустя три месяца после моего возвращения из ФРГ, так и не смог ответить. Он сказал, что подобные утверждения получил и Ю. В. Андропов, находившийся в Польше на встрече секретарей ЦК. Андропов тоже разговаривал со мной странно. «Не мог же я, — говорил он, — не сообщить о настроении польских товарищей, тем более что они утверждали, будто располагают пленкой с записью твоих заявлений».
«Надеюсь, можно прослушать эту пленку?» — спросил я Андропова, но он сказал, что не захватил ее с собой — не считал удобным просить ее у польских товарищей.
Помню, я сказал Андропову: «Юрий Владимирович! Дело не шуточное, ведь именно таким образом на нашей памяти творились черные дела…» Андропов не продолжил разговора.
Теперь в самых разных вариантах возникают «версии» той давней истории. Пишут о ней так, будто получили известия из первых рук. Но меня никто никогда не спрашивал, как было на самом деле.
Их подоплеку мне высказал помощник Хрущева Владимир Семенович Лебедев, с которым я как-то встретился, уже после смещения Хрущева.
Он спросил, фигурировала ли та записка в числе обвинений, выдвинутых против Хрущева? Я ответил, что на Пленуме об этом разговора не было. «Знаешь, — сказал Лебедев, — странно вел себя фельдъегерь из Москвы. Он требовал, чтобы на пакете расписался сам Хрущев. Никита Сергеевич вскрыл пакет, прочитал бумагу и попросил меня тут же соединить его с «Известиями». Я не понимал, к чему клонил Лебедев. А он закончил свою мысль так: «Представь, что Хрущев не дал бы бумаге спешного хода, не позвонил Подгорному с требованием вызвать тебя, отложил разбирательство до приезда в Москву. Тогда нашелся бы для Пленума еще один аргумент против Хрущева. Спасая зятя, прикрывал его безобразия за границей, да еще прочил его в министры иностранных дел».
Рассказываю это с печалью. Не потому, что жжет меня до сих пор обида: она прошла, как и многие другие. Живы и благоденствуют сочинители и организаторы того доноса. Ничто не поменялось в их натурах. Прикажут — сделают и не такое.
А сплетни живучи. Еще и потому, что ими с легкостью необыкновенной пользуются люди, апломба у которых намного больше, чем интеллигентности. Перефразируя Гамлета, так и хочется сказать: «Знать или не знать — вот в чем вопрос».
Не только меня, но и многих моих товарищей и друзей жег стыд, когда вот так же келейно, как с Хрущевым, решался вопрос об избрании на пост Генерального секретаря ЦК Черненко. Меня, пожалуй, в большей степени, потому что я довольно хорошо знал этого человека. Он работал в Президиуме Верховного Совета СССР в качестве заведующего приемной Брежнева, его главное занятие состояло в обработке почты. Как главный редактор «Известий» я почти еженедельно проводил в его кабинете несколько часов: он зачитывал мне письма, и мы решали их судьбу. Черненко в ту пору был милым, спокойным человеком. Абсолютно далекий от серьезных государственных забот, без яркой жизненной биографии, опыта, он странным стечением обстоятельств с поразительной быстротой взлетел на самый верх партийной лестницы — помощник Брежнева, заведующий отделом ЦК, секретарь ЦК, претендент на пост Генерального секретаря. Почти сразу после его избрания полились восхваления, елей, начали издавать труды, выслушивать поучения и рекомендации. Все это оправдывалось «высшими» соображениями и преемственностью прежнего курса.
И действительно, в новом обличьи воссоздавался образ дорогого Леонида Ильича. К. У. Черненко носил уже три звезды Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Ленинской премии. Это награждение, как говорили тогда, прошло по «закрытому» списку и общественностью не обсуждалось. Черненко был включен в группу архитекторов и строителей, которая занималась «сверхсекретной» работой по переделке и переоборудованию одного из старых зданий Кремля для служебных целей.
Кто же все это делал? Неужели и теперь мы ограничимся безадресным гневом по поводу неких аппаратчиков. Да нет же, имена известны. Это — Романов, Кунаев, Рашидов, Соломенцев, Алиев, Гришин и примыкавшие к ним безликие фигуры, такие, как Демичев и Пономарев.
Читать дальше