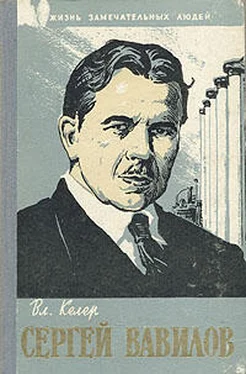Затем С. И. Вавилов перебрасывает мостик от житейского и поэтического к научному и серьезному:
«Древняя догадка о родстве глаз и Солнца, однако, сохранилась, правда в глубоко измененной форме, в современном естествознании. Наука нашего времени обнаружила подлинную связь глаза и Солнца, связь совсем иную, чем та, о которой думали древние, чем та, о которой говорят дети и поэты. Этой связи и посвящена настоящая книга».
Основной текст вводит читателя в необычайно интересную — и неожиданную для большинства — область научного сопоставления глаза и Солнца.
С. И. Вавилов объясняет явление спектрального распределения чувствительности глаза. Он говорит, что именно здесь наиболее отчетливо проявляется «солнцеподобие» глаза. Чувствительность человеческого глаза, как известно, ограничена очень небольшим интервалом длин волн — от 400 миллимикрон до 750 миллимикрон. Ни более длинные — инфракрасные — волны, ни более короткие — ультрафиолетовые — волны человек непосредственным зрением не воспринимает. Но оказывается — и для многих это совершенно неожиданно! — довольно высокой чувствительностью глаз обладает по отношению к ультрафиолетовым лучам в интервале волн от 400 до 300 миллимикрон. Почему же мы не видим в этом интервале? Потому, что хрусталик человеческого глаза поглощает этот ультрафиолет. Оказывается, это биологически целесообразно, и автор объясняет далее, почему именно так.
Потом Сергей Иванович подсчитывает объемную плотность энергии в полости глазного яблока при температуре человеческого тела (37 градусов) и приходит к выводу, что эта плотность настолько велика, что если бы чувствительность глаза в инфракрасной части была бы та же, что и в зеленой части спектра, то этот собственный «инфракрасный свет» соответствовал бы силе света в 5 миллионов свечей!
«Глаз внутри засветился бы миллионами свечей, — пишет Вавилов. — По сравнению с этим внутренним светом потухло бы Солнце и все окружающее. Человек видел бы только внутренность своего глаза, а это равносильно слепоте».
Так выясняется, почему чувствительность глаза ограничена столь тесными пределами — меньше одной октавы: природа позаботилась о наших же собственных интересах.
Придавая огромное значение популярности научных знаний, С. И. Вавилов ищет все новых организационных форм, которые облегчили бы передачу знаний народу.
С окончанием второй мировой войны перед советским народом во весь рост встала проблема восстановления народного хозяйства. Это, в свою очередь, потребовало широкого использования достижений науки и техники на фабриках и заводах, на колхозных полях, в лабораториях промышленных предприятий. Распространение знаний стало одним из главных условий выполнения гигантских задач, поставленных перед народом партией и правительством.
И вот 1 мая 1947 года инициативная группа деятелей советской науки, литературы и искусства обратилась к советской интеллигенции и к учреждениям с предложением создать Общество по распространению политических и научных знаний. Предложение было широко поддержано во всех концах страны, и общество было создано. Первым председателем его был единодушно избран крупнейший популяризатор научных знаний в стране Сергей Иванович Вавилов.
По предложению вновь избранного председателя Обществу по распространению политических и научных знаний был передан Московский политехнический музей, тот самый, куда еще мальчиком Вавилов бегал слушать лекции виднейших ученых дореволюционного времени. Обществу передали также журнал «Наука и жизнь» и Центральную политехническую библиотеку.
Объясняя задачи и цели Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, Вавилов высказал тогда же, в 1947 году, одну очень интересную мысль:
«В науке всегда сосредоточен ряд очень конкретных сведений, понятий, приемов, которые необходимы для специалиста, но практически мало нужны для человека, занимающегося другим делом. Вместе с тем каждая наука заключает в себе некоторые очень широкие понятия, законы, выводы, имеющие нередко значение, далеко выходящее за рамки потребностей данной области знания». [26] С. И. Вавилов, Задачи и цели Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. «Вестник Академии наук СССР», 1947, № 8, стр. 5.
Сергей Иванович пояснил, что он подразумевает при этом: в первую очередь теорию Дарвина, учение об атомном строении вещества, закон сохранения энергии и т. д. Все эти разделы науки имеют огромное значение для человека, все они неизменно вызывают огромный интерес. Поэтому все их надо в первую очередь широко популяризировать.
Читать дальше