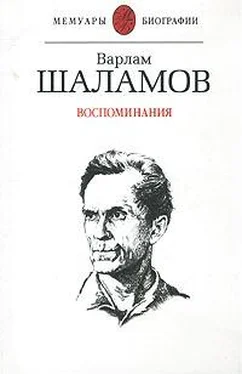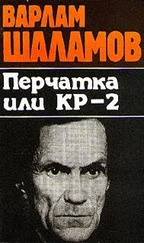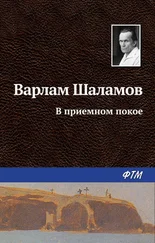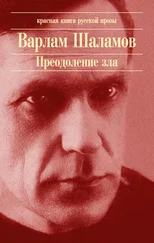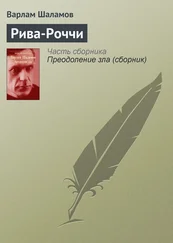Варлам Шаламов
ВОСПОМИНАНИЯ
Несколько моих жизней [1] Впервые: Стихотворения. М. 1988.
Я пишу стихи с детства. Мне кажется, что я писал стихи всегда. И все же…
Мне пятьдесят семь лет. Около двадцати лет я провел в лагерях и в ссылке. По существу, я еще не старый человек, ибо время останавливается на пороге того мира, где я провел двадцать лет. «Подземный» опыт не увеличивает общий опытжизни — «там» все масштабы смешены, и знания, приобретенные «там», для «вольной жизни» не годятся. Мне не трудно вернуться к ощущениям детских лет. Колыму же я никогда не забуду. И все же это жизни разные. «Там» я не всегда писал стихи. Мне приходилось выбирать между жизнью и стихами и делать выбор (всегда!) в пользу жизни.
Я хорошо помню Первую мировую войну, «германскую» войну, телеги с новобранцами, пьяными, «Последний нынешний денечек», немецких военнопленных, переловивших всех городских голубей. С 1915 года голубь перестал считаться священной птицей в Вологде. Оба моих брата были на первой войне. Второй брат, красноармеец химической роты, убит на фронте во время гражданской войны. Отец ослеп после смерти сына и целых тринадцать лет еще жил — слепым…
Случилось так, что в жизни моей не было человека, который открыл бы мне поэзию, русскую поэзию, который прочел бы со мной живым языком живые стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Я двигался ощупью от книги к книге медленным и неэкономным путем. Хлебников стал моей потребностью раньше, чем Пушкин, Северянин — раньше, чем Блок, раньше Асеев, чем Анненский. Не говоря уже о вершине русской поэзии — Тютчеве. Не было в моей юности человека, который научил бы меня любить стихи. Этим человеком бывает школьный учитель, старший брат, отец, мать. Мама моя могла бы это сделать, как я догадывался позже, когда думал о ней уже после самой последней разлуки. Мама моя была человеком крайне тонкой нервной организации. Помню, она не могла сдержать слез, слушая музыку — всякую музыку, не исключая и самой бравурной. Симфонический оркестр, рояль и скрипка приводили ее в трепет, почти к истерии. Мама моя знала бесконечное количество стихов — главным образом классиков. Всевозможные стихотворные цитаты хранились в маминой памяти на все случаи жизни, — я думаю, что стихи играли в ее жизни роль очень большую и вполне реальную.
Стихи в маминой памяти закреплялись как жизненные наблюдения, но не как музыкальные аккорды. Мама и не пыталась понять тайну воздействия искусства на человека.
Не отличая минора от мажора, мама плакала. Тогда было время явления детекторных приемников, гигантских антенн. Я хотел поставить ящик с наушниками в комнату мамы.
— Нет, нет. Я буду целый день плакать.
Через много лет мне рассказывал Пастернак, что не может в кино смотреть крупный план — слезы текут неудержимо.
— Лошадь какую-нибудь покажут в кинохронике, а я реву навзрыд.
Внезапные слезы взрослого человека не такая уж редкость…
Я хорошо помню февральскую революцию — как легко рухнул огромный чугунный орел, повязанный канатами и сорванный с фронтона мужской гимназии.
Помню и октябрьский переворот — в Вологде более будничный, чем свержение самодержавия, но в то же время и более значительный по разговорам взрослых, по тревоге обшей…
Я хорошо помню Кедрова — командующего фронтом, помню его вагон. Помню латышей — в синих галифе, танцующих в городском саду без дам, друг с другом…
Едва кончив готовить уроки, я принимался за таинственную игру… щепками, спичечными коробками и разыгрывал про себя Гоголя, Пушкина и особенно Гюго и Александра Дюма…
Этот театрализованный пересказ всего прочитанного длился все детство. Отцовский книжный шкаф всегда был в моем распоряжении. Впрочем, Александр Дюма был не из этого шкафа.
В 1918 году были конфискованы помещичьи библиотеки и создана на месте городской тюрьмы в центре города рабочая библиотека. Год знакомства с этой библиотекой был очень ярок для меня. Дюма, Конан Дойль, Майн Рид, Виктор Гюго — все в золотых переплетах — ждали меня каждый день. Я читал и переигрывал все прочитанные романы подряд.
Помню бывшие в большой моде антирелигиозные диспуты. Я сам был участником этих диспутов. Мой отец — слепой священник — ходил сражаться за Бога. Сам я лишен религиозного чувства. Но отец мой был верующим человеком и эти выступления считал своим долгом, нравственной обязанностью. Я водил его под руку, как поводырь. И учился крепости душевной…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу