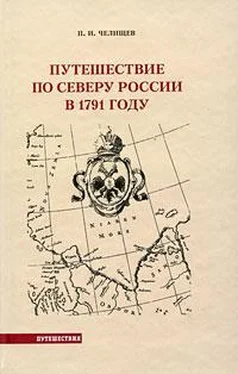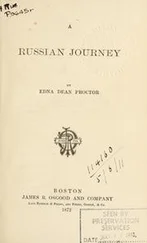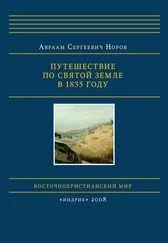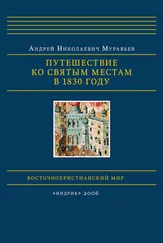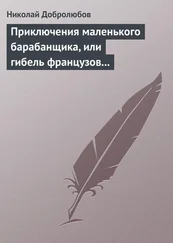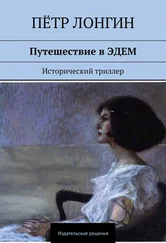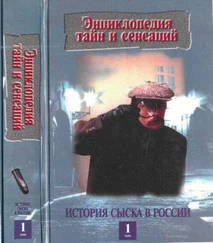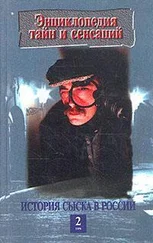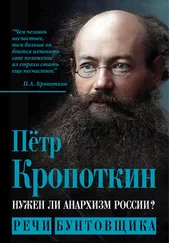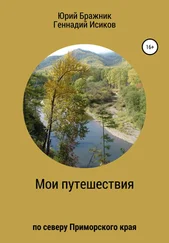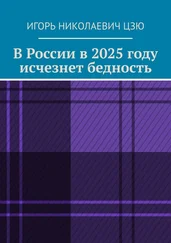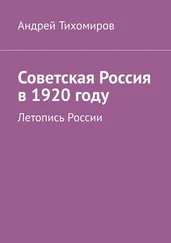Челищев пробыл в Лейпциг до половины 1770 года: в этом году, 25-го мая, состоялось именное повеление Бокуму отправить обратно в Россию Челищева и его товарища князя Трубецкого, выдав им на проезд по сто червонцев. Вызванные прибыли в Петербург в исходе 1770 года, совершив с немалою опасностью осеннее плавание по Балтийскому морю, и объяснениями своими разоблачили поступки Бокума с порученными ему молодыми людьми.
Пребывание в Лейпцигском университете доставило Челищеву возможность приобрести хорошее образование. В числе профессоров, которых он мог слушать там, было несколько пользовавшихся большою известностью, в том числе Геллерт, преподававший словесные науки, и Эрнест Платнер, читавший философию и физиологию. Платнер в своем преподавании старался сближать отвлеченную науку с насущными потребностями жизни, затрагивал социальные вопросы, подвергал критике существующие законы и общественные порядки, указывал вопиющую неправду в отношениях между бедными и богатыми, сытыми и голодными и т. п. Влияние Платнера на Челищева не подлежит сомнению и доказывается многими страницами его путевого дневника.
О службе Челищева по возвращении в Россию ничего почти не известно. Во всяком случае, видного служебного положения он не успел приобрести и в 1790 году был только секунд-майором в отставке. Когда, в июле этого года, поднялась тревога по поводу изданного Радищевым «Путешествия из Петербурга в Москву», императрица возымела подозрение, что Челищев принимал участие в сочинении и печатании этой книги. Очевидно, что Челищев был на дурном счету при дворе. Впрочем, подозрение это оказалось несправедливым, и Челищев не подвергся никакому преследованию.
В мае 1791 года Челищев предпринял путешествие по северным областям России, при чем проехал в направлении с юго-запада на северо-восток Олонецкую губернию, посетил средние части губернии Архангельской, западные уезды Вологодской губернии и восточные — Новгородской; в декабре 1791 года он уже возвратился в Петербург. Путешествие это было совершено Челищевым на свой счет; странствовал он один, в сопровождении лишь нескольких своих слуг. Главным, по видимому, побуждением, которое руководило Челищевым, была любознательность; быть может, также и то, что, как человек, искренно религиозный, он желал поклониться многочисленным святыням Русского севера. Самые разнообразные предметы привлекали внимание его во время странствования, начиная от памятников благочестия и древности до мелких подробностей народного быта и состава чиновников в посещенных им городах; но в особенности занимало его все, что касается народного благосостояния: Челищев с живым сочувствием относится к бодрому и трудолюбивому населению Русского севера, обстоятельно описывает разнообразные его промыслы и нередко высказывает горькое сожаление о том небрежении к народным нуждам, которое обнаруживают правительственные лица и представители духовного сословия, обязанные пещись о развитии нравственных и материальных сил народа. Злоупотребления иностранцев в торговле и притеснения с их стороны русским промышленникам вызывают горячее его негодование. Весьма замечательны обильные статистические данные, сообщаемые Челищевым; по всей вероятности, они получены им от местных чиновников. Довольно много встречается у него и сведений исторических; автор почерпал их, как из устных рассказов, так и из письменных источников, которые не упускал случаев разыскивать и просматривать в разных местах; некоторые промахи в исторических его показаниях легко объясняются отсутствием в его руках общих пособий для справок. При всей своей набожности, Челищев является, однако, человеком своего века в отношении к предметам религиозным: он строго осуждает суеверие народа, а в расколе видит только «густой туман лжеверия». Во всяком случае, путевые записки Челищева представляют чрезвычайно богатый материал для изучения народной жизни Русского севера в конце прошлого века и, вместе с тем, свидетельствуют, что автор их был человек светлого ума, дельного образования и благородного, независимого образа мыслей.
В числе предметов, на которые Челищев обратил внимание во время своего путешествия, был народный язык и его местные особенности. Он собрал некоторое количество северно-русских провинциализмов и, видя в этих народных выражениях доказательство богатства Русского языка, богатства, которое не признавалось иностранцами, да и русским людям школьного образования было мало известно, - он задумал сообщить запас своих лингвистических наблюдений Российской академии. В 1793 году он представил академии записку по этому предмету, которая до сих пор хранилась в архиве и лишь в прошлом году обнародована академиком М. И. Сухомлиновым. Записка эта служит естественным дополнением к путевому дневнику Челищева и потому помещается здесь, вслед за его журналом.
Читать дальше