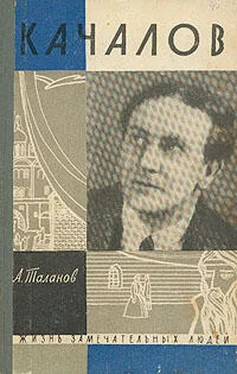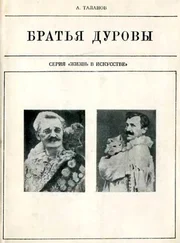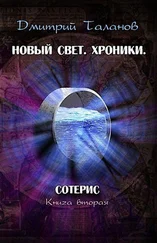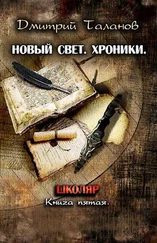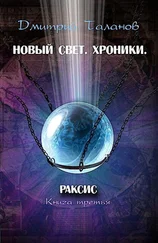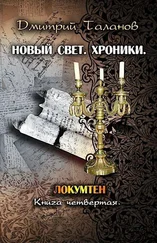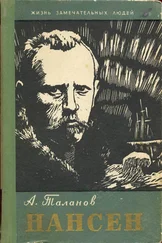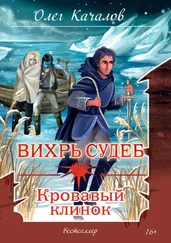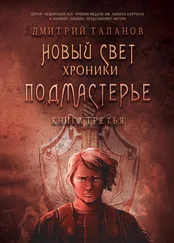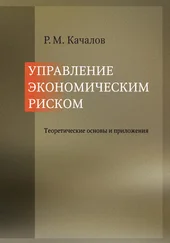Поражало, с какой удивительной нарастающей силой читал Качалов это выдающееся произведение немецкого поэта. Герой его как бы возникал из музыки гениального композитора и вместе с ней достигал необычайной мощи к концу монолога. Потому победный финал симфонии Бетховена и мужественное прощание Эгмонта перед смертью воспринимались неразрывно, как торжественный гимн свободе.
Артист с полным основанием считал чтение «Эгмонта» знаменательной вехой на своем актерском пути.
Нередко возникает вопрос — кем преимущественно был Качалов на концертных подмостках: актером или чтецом? Великим художником — вот, прежде всего кем был Качалов на эстраде. Творчество его было многогранным, артистическое богатство неисчерпаемым, и образы, которые рождались в его необъятной душе художника, были «качаловскими». Это главное!
Готовя хотя бы короткий стих для чтения, Качалов работал над ним, как над большой, сложной ролью. «Чтение стихов — труднейшее искусство, — говорил он. — Могу сказать, что до сих пор я только учусь этому делу. Только учусь!» Так беззаветно относился к своему благородному искусству один из величайших актеров-чтецов.
Поэт С. Я. Маршак живо описывает, как страстно любил Василий Иванович художественное чтение и как щедро он делился своим необыкновенным даром. Они жили вместе в загородном санатории. Однажды IB комнату поэта, где, кроме него, в тот момент находилось еще двое, вошел Качалов. В руках он держал книгу. Видно было, что ему хочется почитать, наверно для того и пришел. Перед самой маленькой аудиторией, даже перед одним слушателем он читал со всей силой души и таланта, как со сцены МХАТа или в Колонном зале.
Он раскрыл книгу, надел пенсне и принялся неторопливо читать, едва скользя глазами по строчкам.
То были два маленьких рассказа Горького — «Могильщик» и «Садовник». Рассказы о простых, как будто ничем не примечательных людях.
Первые строчки Качалов прочел ровным, спокойным голосом, не играя, а именно читая. Но вот он отложил книгу, снял пенсне, и «месте с его стеклами исчез обычный качаловский облик. Перед слушателями возник одноглазый кладбищенский сторож Бодрягин, страстный любитель музыки. Алексей Максимович осчастливил его щедрым подарком — гармоникой. Захлебываясь от восторга, сторож не говорит, а будто выдыхает первые слова благодарности:
«Умрете вы, Алексей Максимович, ну, уж я за вами поухаживаю!..»
Василий Иванович перелистал страницы книги, и на смену кладбищенскому любителю музыки явился садовник, обстоятельный, деловитый, в чистом переднике, с лопатой и лейкой в руках.
Дело происходит в начале революции в Петрограде, в Александровском саду. Под треск пулеметной стрельбы садовник неуклонно занимается своим хозяйством да еще по-отцовски поучает пробегающего по саду солдата:
«Ружье-то почистил бы, заржавлено ружье-то…»
Качалов читал и одновременно все играл с необыкновенной точностью памяти, жесты его были скупы, но уверенны. Он будто пережил вместе с писателем те же события, повидал с ним тех же людей в тех же местах.
Мастерски, обычно с юмором, описывал Василий Иванович и свое пережитое.
— Стояла мягкая зима, падал мягкий снежок, — рассказывал он Маршаку. — Я шел по дороге за городом между двумя рядами высоких сосен и слышал только хруст снега у себя под ногами. Кругом — ни души. И вдруг откуда-то сверху гулкий, даже какой-то торжествующий голос:
«Василий Иванович! Ты слышишь меня? Василий Иванович!»
Я остановился, огляделся кругом — никого нет.
А таинственный голос, раздававшийся сверху, звал еще громче, еще настойчивей, с какой-то доброй и грустной укоризной.
«Василий Иванович! Слышишь ли ты меня, Василий Иванович?»
— Я очень далек от всякой мистики, — усмехнулся Качалов, — но тут оторопел. Кто же это и откуда меня зовет, да так упорно? Только после долгих поисков я обнаружил на одном из столбов монтера, который чинил телефонные провода и переговаривался с другим монтером, находившимся на станции или на другом столбе. И все же этот «голос свыше» прозвучал для меня каким-то серьезным предупреждением или укором. Думаю, уж не бросить ли курить!
Еще рассказ Качалова:
— С Федором Ивановичем Шаляпиным мне довелось в первый раз встретиться очень давно в Питере при весьма любопытных обстоятельствах. Тогда я еще не был Качаловым, а имя Шаляпина было мало кому известно. Я учился в университете и в качестве одного из устроителей и распорядителей студенческого концерта-бала должен был заехать за знаменитым трагиком Мамонтом-Дальским. Нарядился я в парадный форменный сюртук, нанял громоздкую извозчичью карету с большими фонарями и подкатил к подъезду гостиницы. Вхожу в номер, рассчитывал долго не задерживаться: оставалось полчаса до начала концерта, — и нахожу Дальского в самом плачевном состоянии. Он сидит у стола, расстегнув ворот нижней рубашки и обнажив широкую грудь. Вид у него хмурый. Я деликатно напоминаю ему о концерте в Благородном собрании, но с первых слов его понимаю, что он не поедет.
Читать дальше