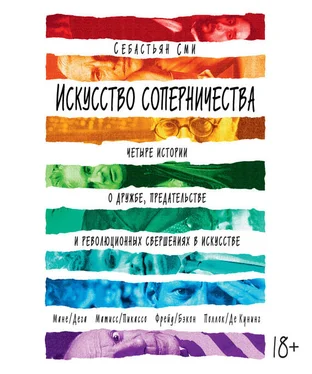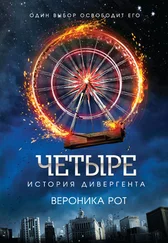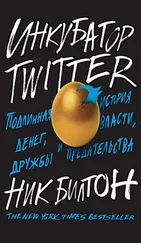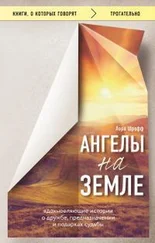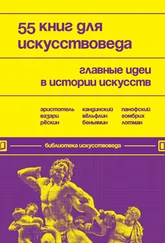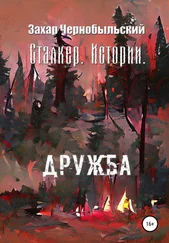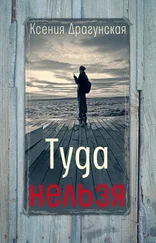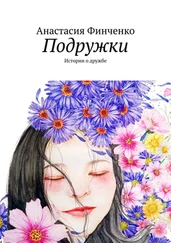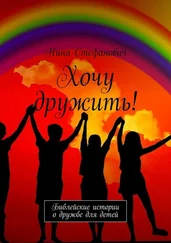Мане, по-видимому, согласился участвовать в хитроумном семейном обмане, но сам жестоко страдал. Табаран убежден, что это «отравило ему жизнь». Многочисленные портреты Леона – которые подразумевают долгие часы общения с ним – действительно наводят на мысль о попытке хоть как-то воздать юноше за все, чего он был лишен.
При всей справедливости утверждения, что пример Мане пробудил у Дега желание стать по-настоящему современным, выражать свою эпоху и создавать новое искусство, не менее справедливо и другое: Дега искал собственный ответ на вопрос, что значит быть передовым и современным. Для Дега этот вопрос затрагивал в первую очередь психологию личности, новые условия и способы существования в мире, новые аспекты формирования и сохранения своего «я». Дега хорошо чувствовал грань между внутренним миром индивида и его внешними проявлениями, грань труднопреодолимую и даже труднообъяснимую. (Его провидческие догадки во многом стали первым образом тех внутренних состояний – вызванных бездомностью, неприкаянностью человеческой души, – которые впоследствии так драматично воплотят Пикассо и Бэкон.) Постепенно он утвердился в мысли, что его модели больше расскажут о себе, скорее выдадут свои секреты, если их застигнуть врасплох – когда они думают, что их никто не видит, или удивлены чьим-то внезапным появлением. Поэтому, вдохновленный отчасти фрагментарностью и асимметрией японских гравюр, Дега примерно с 1865 года начал экспериментировать с произвольно смещенными, перенасыщенными фигурами, разбалансированными композициями. На первых порах его картины еще жестко связаны с рисунком – в котором он был необычайно силен – и следуют традиционным принципам моделировки с постепенным переходом от темных тонов к светлым. Однако медленно, но верно в них стало проступать нечто новое, нечто такое, что способен был создать только он, Дега.
В 1865 году он написал картину, которую можно считать подлинным творческим прорывом: «Женщина у вазы с цветами» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Женщина – вероятно, жена приятеля Дега Поля Вальпенсона – задумалась о чем-то своем, явно не подозревая, что за ней наблюдают. Первое, что бросается в глаза, – асимметричность композиции. Фигура сдвинута к краю холста, словно ее вытеснил пышный букет августовских цветов. Этот прием, как, впрочем, и почти все детали картины, вплоть до поднятой к уголку рта руки (жест, который будет повторяться у Дега снова и снова), создает ощущение нерешительности. По сравнению с гротескными искажениями и утрированной драматизацией лица, ставших в портрете XX века обычным явлением, инновации Дега могут показаться едва заметными. Но до него ничего подобного в портретной живописи просто не было.
И здесь самое время рассказать о дружбе Дега с Эдмоном Дюранти. В отличие от Мане, постоянно и тесно общавшегося с писателями, начиная с Бодлера и заканчивая Золя и Малларме, Эдгар Дега литераторов в общем не жаловал. Но в 1865 году – когда была написана «Женщина у вазы с цветами» – он познакомился с Дюранти и сразу к нему расположился, как будто знал его давным-давно. Романист и критик Дюранти печатал в газете «Фигаро» заметки об искусстве, отличавшиеся суховатой точностью стиля и высокой культурой речи. Поговаривали, будто бы он внебрачный сын Проспера Мериме, автора знаменитой новеллы «Кармен» (на сюжет которой Жорж Бизе написал еще более знаменитую оперу), но слухи так и остались слухами. Вместе с Шанфлёри он в 1856 году стал выпускать ежемесячное литературно-художественное обозрение «Реализм», правда дальше шести выпусков дело не пошло, издание разорилось, но Дюранти продолжал писать об искусстве, о поисках новых тем, о попытках живописцев идти в ногу со временем.
Для Дюранти – и для Дега тоже – быть новатором означало бескорыстно служить Истине, всегда говорить только правду. Культивируя в себе холодную объективность ученого, они взялись изводить сентиментальность и объявили войну клише. В полемическом запале Дюранти не замечал никакого противоречия в том, что, с одной стороны, он выступает пламенным борцом за дело реализма, а с другой – восхищается теми самыми мастерами, против которых художники-реалисты и восстают. В этом, как и во многом другом, они с Дега были похожи. Дюранти разделял давнюю любовь Дега к холодноватому неоклассицизму Энгра. Размышляя о живучести традиционных пристрастий, Дега мучительно искал свой стиль, который был бы сдержаннее и спокойнее, не таким страстным и откровенно живописным, как сногсшибательный стиль Мане.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу