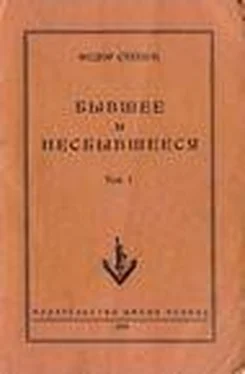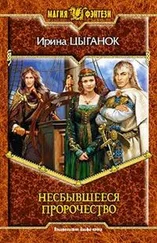ревьев, придавая лесной глуши таинственный мифический характер. На закате мы часто любовались нашей соседкой, красавицей-грузинкой, которая, стоя, подобно античной богине в запряженной двумя волами ладье, медленно скользила по кругом разложенным золотым снопам пшеницы. По вечерам, когда живший по соседству скрипач, похожий на Шопена, играл на скрипке, к его балкону задумчиво подходил усталый от ярма громадный черный буйвол и, подняв кверху голову, внимательно слушал музыку своего поработителя – человека.
Так медленно и благостно катились наши кавказские дни. И вдруг все переменилось. Сидя как-то утром у себя на террасе, мы увидели двух направляющихся к нам молодых людей типично артистической наружности. Подойдя ближе, они с грацией сняли свои загнутые спереди a la Napoleon панамы, вынули изо рта американские трубки и, назвав свои фамилии, по очереди склонили свои головы над «ручкой» Наталии Николаевны, с тою особою, небрежно-требовательною почтительностью, что свойственна, кажется, только русским актерам.
Молодые люди оказались учениками петербургской театральной студии Озаровской. Приехав на Кавказ «без лишних денег в кармане», они решили подобрать «небольшую, но чистенькую труппу» и провести ряд спектаклей на кооперативных началах. Всю организационную работу они брали на себя, обещая в случае материальной неудачи, представлявшейся им абсолютно невозможной, покрытие дефицита без моего участия.
Встретив меня несколько дней тому назад на прогулке, они сразу же решили, что я или актер или «первоклассный любитель»: «человек с таким лицом не может быть чужд сцене». Ставили они вещь, по их словам, «вполне серьезную», переводную драму Свэн Ланге «Самсон и Далила». Мне предлагалась
главная роль писателя Крумбаха, сильная и сложная, требующая тонкого психологического анализа и «нерва».
Сцена меня с юности волновала, свободного времени у меня было много, выучить роль в несколько дней мне тогда ничего не стоило; просмотрев интересную пьесу, я, не долго думая, согласился на предложение. Наташа ехала, конечно, с нами в качестве гримерши и суфлера.
Назначенная через несколько дней репетиция прошла удачно. Ученики Озаровской были вполне на высоте. Не бездарной оказалась и моя партнерша, бросившая сцену ради быстро бросившего ее мужа, молодая, преждевременно увядшая женщина с ласковыми, ланьими глазами в прочерненных туберкулезом орбитах. В гриме она молодела и становилась красавицей.
Ввиду того, что первый спектакль в Цагверах и второй в Бакурьянах прошли с аншлагом, мы решили показаться в «столичном» Боржоме, где был маленький, но довольно приличный театрик. Имя известной «сказительницы» Озаровской делало свое дело.
Спектакль и в Боржоме прошел весьма удачно. Зал был почти полон изысканной курортной публики. Нас вызывали много и дружно. Премьерше были преподнесены цветы.
Окрыленные успехом, мы решили сыграть еще и в Сураме. Приехав туда на рассвете, мы сразу же отправились в городской сад посмотреть театр и решить, можно ли будет в нем отдохнуть с дороги, или надо направляться в гостиницу.
Театр оказался запертым. Но на площадке перед ресторанной террасой сидела за столом, заставленным бутылками и стаканами, компания военных; среди них особенно запомнился мне моложавый, седоусый генерал, затянутый в щегольскую черкеску. Пе
ред кутившей, очевидно уже с вечера, компанией, стояло несколько пластунов танцоров: лихие папахи, широкие груди в патронах, перетянутые серебряными поясами осиные талии. Дробью рассыпалась зурна; монотонно и все же лихо неслись ритмы лезгинки. Танцоры, сильно накренившись вперед, с отброшенными назад, параллельно земле руками, с такою быстротою перебирали по земле ногами, что, казалось, они плавно несутся над ней. Круг, другой, потом прыжок легкий, мягкий, хищнически пружинный, и снова плавное скольжение: победа над тяжестью тела и притяжением земли.
Не помню, чтобы я когда-нибудь так наслаждался танцем, как в Сураме.
Конечно, мы тут же познакомились с офицерами и, по приглашению генерала, подсели к их столику. Его превосходительство был, очевидно, очень доволен: еще бы, молодые, интересные женщины, актеры, люди искусства, кто бы лучше нас мог понять его артистический восторг.
Когда пляска была окончена, генерал подозвал пластунов к столу, угостил вином и, вручив каждому по серебряному рублю, отпустил с миром.
Прощаясь с нами до вечера и с особою нежностью склоняясь седыми усами к руке нашей премьерши, генерал весело говорил:
Читать дальше