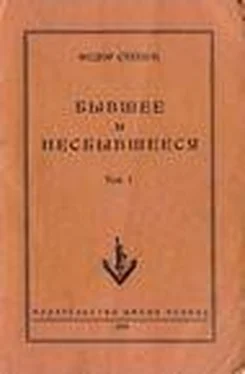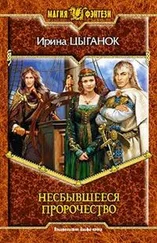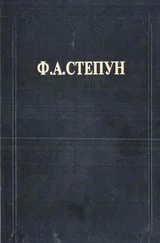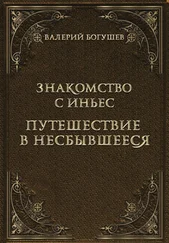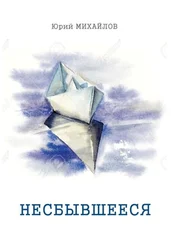ную семью, большим Дон-Жуаном. Под его влиянием, его собственные многочисленные дети, как и дети его сестры, поступая в университет, или на Высшие женские курсы, само собою вступали и в партию.
Уже по письмам, которые Аня получала от своих братьев и друзей, мне было ясно, что ее сближение с «идеалистом» было им, революционерам, не только малопонятно, но даже неприятно. В их письмах невинный для меня термин «идеалист» звучал так же непримиримо, как полуругательство «жид» в устах дворян-антисемитов.
Наиболее враждебно встретил меня младший брат Ани Иван, участник того «мокрого» дела (так, пользуясь уголовным жаргоном, называл террористические акты старший брат Ани, опора дела и набожный черносотенец Михаил), во главе которого стояли погибшие впоследствии братья Добролюбовы.
Худой, жилистый юноша, невысокого роста, зараженный террористической идеей, словно револьвер пулею, Иван в первое время нашего знакомства сознательно не разрешал себе общения со мною. Входя в комнату своею странною походкой (шмыгающие ступни и согнутые колени), он сразу же отходил в дальний угол, откуда, не принимая участия в разговорах, бросал на меня лихорадочные взоры своих глубокосидящих в скуластом лице глаз. Иногда он приводил с собою гимназического товарища, конечно, тоже партийца, сильно окающего крестьянина с Сенежского озера. Крестьянин этот был на редкость красивый юноша-богатырь; в выражении правильного лица, озаренного задумчиво скорбными глазами и всегда бледного от темных, длинных волос, было нечто иночески-богатырское. С приятеля Ивана Оло-вянникова Виктор Васнецов мог бы написать прекрасный образ Георгия Победоносца.
Кроме черносотенного Михаила, которого Аня ненавидела, и младшего Ивана, с которым ей бывало
часто как-то не по себе, у нее был еще третий, любимый брат Павел, студент юридического факультета, большая умница и талантливый партийный оратор. По приезде в Москву мы застали Павла в Бутырской тюрьме. Однажды, во время передачи, Аня познакомила меня с его невестой, Наташей Никитиной, и ее братом Андреем. Никитин, как и братья Оловянни-ковы, был социалистом, но каким-то особенным. В Андрее все (изящная, какая-то поникшая фигура, девичья белизна кожи, легкое золото летучих волос, блуждающая в светлых, северно-синих глазах пленительная улыбка) дышало нежностью, хрупкостью и застенчивостью. Глядя на Андрея Никитина, я не сомневался в том, что, не болей вся Россия революционною горячкою, он никогда не оказался бы в партии. Для революционной борьбы он не располагал ничем, кроме, быть может, искреннего сочувствия к «униженным и оскорбленным», играющего в революциях, как выяснилось, самую последнюю роль.
Приготовления к свадьбе нас с Аней мало занимали. Мы венчались по просьбе ее родителей и ради устранения формальных неудобств совместной жизни не в городе. Пожизненной верности мы друг другу не обещали; не по легкомыслию или испорченности, а по крайней честности. Я был радикальнее Ани и любил повторять, что вопрос о природе нашей любви – брак, или не брак – разрешится для нас только на смертном одре. Ясно, что при таком отношении к перемене в нашей жизни, очень важные для Аниных родителей вопросы приданого, обзаведения и средств к существованию, нас вообще не интересовали.
Наше предсвадебное время мы проводили в театрах, музеях и в бесконечных миросозерцательных и политических разговорах. «Товарищи» – как Ани-ны родные, так и ее знакомые – стаями перелетавшие из квартиры в квартиру, прилагали все усилия,
чтобы разбить и развенчать меня. Чувствуя мою силу в философии и диалектике, они переводили наши споры в сферу программных и тактических вопросов революционной политики. Я, конечно, не сдавался и, не входя в «неинтересные» детали, упорно «бил» по их несостоятельным философским предпосылкам. Бой был не равен: я сражался один – один в поле не воин – они же чувствовали себя призванными глашатаями идущей к победе революционной России. «Сплоченной дружиной» гребли они «против течения», я же, стоя на перекидном мосту своей философии, всего только созерцал борьбу революции и реакции, в моем понимании, борьбу двух неправд. Твердо уверенный в своей правде и в своих силах, я не только не страдал от своего одиночества, но даже гордился им. Зато сильно страдала за меня Аня. Сердцем поддерживая меня, она волей и сознанием была все же на стороне моих противников.
На следующий день после венчания в старинной подмосковной церкви и грустного празднования этого события в родительском доме (моя ранняя женитьба совершенно сразила мою мать, болезненно привязанную к своему первенцу), мы с Аней отправились обратно в Гейдельберг, где идиллически устроились в миниатюрной – в две с половиною комнаты – квартире. Наш «Гартенхауз», в нижнем этаже которого был сарай, где хранились лопаты, грабли, метлы и всяческая домашняя утварь, представлял собою нечто вроде стеклянного скворечника во фруктовом саду. Жили мы, конечно, по-студенчески: обедали в ресторане, ужинали же у себя дома. К ужину – чай с бутербродами – обыкновенно приходили наши приятели. Работали мы много и со страстью, но каждый про себя. Женитьба не пробудила во мне естественно-научных интересов; Анины же философские искания она скорее притупила. Защищать свой «диалектический материализм» против моего кантианства
Читать дальше