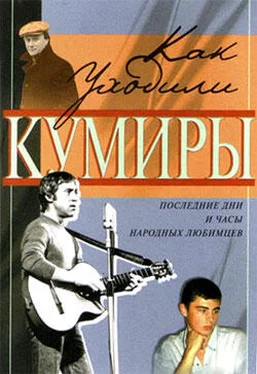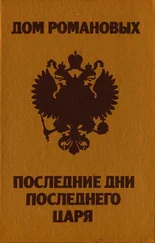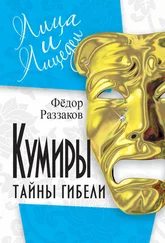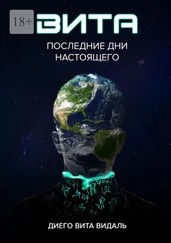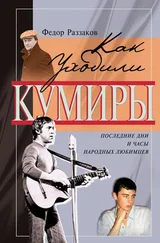Я вообще придерживаюсь точки зрения, что смертельно больной человек не должен знать своего диагноза. Зачем лишать его надежды, пусть иллюзорной? Убеждена: надежда поддерживает, безнадежность ускоряет роковой исход…
Твардовский умер через несколько месяцев. Много говорили о его запоях, о пристрастии к алкоголю. Но в медицинских документах об этом недуге не было сказано ни слова…»
Власть, которая лишила Твардовского его детища и тем самым ускорила его смерть, теперь постаралась создать вид, что глубоко скорбит по поводу его кончины. Под некрологом поставили свои подписи все члены Политбюро, что выглядело кощунственно: именно эти люди в первую очередь и травили Твардовского.
Гражданская панихида прошла в понедельник 20 декабря. На следующий день на Новодевичьем кладбище состоялись похороны. Что примечательно: если умирал какой-нибудь партийный или государственный деятель, то на все столичные предприятия приходила разнарядка, которая обязывала руководящие органы обеспечить приход людей на траурное мероприятие. И партийные, и комсомольские организации чуть ли не силком заставляли людей идти на похороны, в противном случае грозя большими неприятностями. Так обеспечивалась многолюдность большинства правительственных похорон. С Твардовским все было иначе. Никаких разнарядок «сверху» не было и в помине, наоборот – власть делала все от нее зависящее, чтобы как можно меньше людей узнали о времени и месте похорон поэта. Но люди все равно пришли, и такой многолюдности могли позавидовать любые правительственные похороны.
Вспоминает Н. Ильина: «Умер. И теперь гроб Твардовского, как он сам и предвидел, должны были обступить те самые, кто травили его, поносили, унижали, вырывали и вырвали из его рук журнал. Это пыталась предотвратить вдова поэта Мария Илларионовна: обратилась к Ю. Верченко, назвала несколько нежелательных имен. Просьба уважена не была. Травившие распоряжались похоронами, почетным караулом обступали гроб, а один, и устно, и в печати называвший Твардовского „кулацким сынком“ (нежелательность присутствия этого человека Мария Илларионовна подчеркнула особо!), тем не менее не только присутствовал, но и речь на траурном митинге не дрогнул произнести. Зал, набитый народом, безмолвствовал. Однако когда в почетном карауле появилась вальяжная, массивная фигура Софронова, тогдашнего редактора „Огонька“, особо отличившегося в клевете и травле „Нового мира“, по залу прошел ропот, напоминавший шум прибоя, и смыло со сцены массивную фигуру…
Как и два года назад, перекрыта улица Герцена и все к ней прилегающие улицы, и повсюду милиция, но тут еще и военная охрана, уже и пешеходу нельзя было приблизиться к зданию ЦДЛ. Кордон в вестибюле. Дежурные на лестницах. И я не знаю, каким Божьим чудом тот, появления которого так опасались, что и на войска не поскупились, в дом все-таки проник! Как я помню, его внезапное возникновение в проеме распахнувшейся близко от сцены двери не всеми сразу это было замечено, но вот вошедший шагнул вперед, к первому ряду, к семье Твардовских, и тут уж его голова, его плечи всему залу видны – и шорох, и шепот, и волненье… Я только не помню, шел ли уже траурный митинг, и выступал ли кто-нибудь в эти минуты, и если да, то не запнулся ли? А он уже сидит бок о бок с Марией Илларионовной, а через какое-то время, когда началось прощанье, я увидела его склонившимся над гробом и осеняющим крестным знамением мертвое лицо Твардовского.
Позже Л. З. Копелев расскажет мне, что он в эти минуты находился в вестибюле и услыхал, как кто-то из там дежуривших кинулся к телефону, набрал номер и – в трубку: «Объект прибыл. Что будем делать?». Ответа на вопрос Копелев слышать не мог, но краток был тот ответ, звонивший почти сразу же от телефона отошел, видимо, инструкций не получив. А какие тут могли быть инструкции? Проморгали, прошляпили, недоглядели, недо… А теперь что уж делать? Не силой же выводить! Тем более, что вдова взяла «объект» под руку, и так, вместе, они и двигались к выходу, к похоронному автобусу…
Потом, прочитав у Солженицына (тем «объектом» был именно он. – Ф. Р. ): «Допущенный к гробу лишь по воле вдовы (а она во вред себе так поступила, зная, что выражает волю умершего)…», я вспомню слова Твардовского: «Не сват он мне, не брат, не друг, не во всем его взгляды разделяю, но я люблю его, люблю… Давно должно было прийти такое русское…»
Морозный декабрьский день. Новодевичье кладбище. Велика была толпа, множество спин заслонили от меня гроб, и я не видела, как Солженицын, прощаясь, вновь осенил покойного крестным знамением, – это запечатлено на фотографии, обошедшей весь мир. Испарился из моей памяти краткий траурный митинг. Не помню и того, кто распоряжался похоронами, – позже от старшей дочери Твардовского Валентины Александровны узнаю: и тут торопились. К вдове обращаться не смели, обращались к дочери: «Пора гроб закрывать!». А все текла, все текла цепочка людей, желавших прикоснуться к покойному, поклониться ему, и дочь отвечала: «Нет еще. Подождите».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу