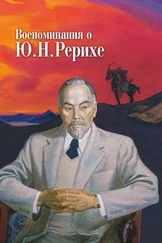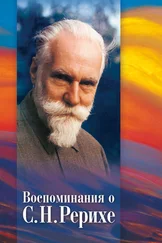— Почему о Герцене? — удивленно спросил меня Корней Иванович.
— А помните книгу, которую вы мне подарили тогда, в сорок втором году?
— Но это были письма Тургенева…
— Да. Но первое письмо, которое открывает книгу, адресовано Грановскому, и начинается оно словами… Я наизусть помню… «Нас постигло великое несчастье, Грановский. Едва могу собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого верили, кто был нашей гордостью и надеждою… 24-го июня в Нови скончался Станкевич…»
До этого я почти ничего не знала о Станкевиче и Грановском, но ведь для того, чтобы заниматься Тургеневым, надо знать все о тех людях, с которыми он встречался, которых любил. И признаюсь вам честно — эти люди заслонили для меня Тургенева. Ну, а когда добралась до Герцена, то поняла, что этим человеком, его книгами можно и должно заниматься всю жизнь. А сороковые годы в Москве! Я не знаю страницы прекраснее в истории русской литературы и русского общества. Право, я бы с радостью отдала двадцать лет жизни за то, чтобы хоть на три дня очутиться в Москве того времени, побывать в мезонине на Сивцевом Вражке у Герцена, на «Трубе» у Грановского…
Нет, я не говорила тогда так внятно, потому что очень волновалась, но Корней Иванович терпеливо слушал меня.
Конечно, мне стало совестно отнимать у него время — ведь Корнею Ивановичу было тогда уже восемьдесят лет! Я попросила разрешения оставить статью и приехать за ней, когда это будет удобно Корнею Ивановичу. Но он не отпустил меня, провел в свой переделкинский кабинет, который памятен всем, кто хоть раз побывал там, сел со мной за стол и стал фразу за фразой читать статью.
Он потратил на меня целый день. Целый день своего драгоценного времени! Мы вместе обедали, потом гуляли, потом снова принимались за чтение. Ни одна лекция, ни один учебник на свете не могли мне дать столько, сколько этот яркий зимний день, проведенный с Чуковским.
Вот он прочел длинную фразу, и на лице его явное удовлетворение.
— Молодец! — говорит он. — Я все ждал, как вы вывернете фразу. Хорошо! Фраза у вас точно кошка: как ни швырни, становится на все четыре лапы.
От счастья и гордости у меня перехватывает дыхание.
И вдруг…
«Они бросились друг к другу, как братья после долгой разлуки», — читает Корней Иванович и, прервав чтение, строго смотрит на меня. — Вы это видели? — спрашивает он брезгливо.
— Что? — не понимаю я.
— Как братья кидаются друг к другу после долгой разлуки?
— Нет… — смущенно отвечаю я.
— Так зачем же вы это пишете?! Никогда не пишите того, что сами не пережили. Может, вы еще напишете: «Толпа гудит, как потревоженный улей»? Он явно сердится. — Или так: «Прижалась лбом к холодному стеклу». Почему-то считается, что когда героиня взволнована, она обязательно прижимается лбом к холодному стеклу. Вранье! Если человеку плохо, его знобит и он скорее сядет в горячую ванну или положит к ногам грелку. А то вдруг — лбом к холодному стеклу…
Порой мы отвлекались от статьи и просто говорили о Герцене и Огареве, о Сатине, Кетчере, Грановском, Станкевиче, о сложных и трудных их отношениях. Говорили о Наталье Александровне Герцен, о Тучковой-Огаревой, о Мальвиде Мейзенбуг. О Тате и Саше Герцен, о трагической судьбе младшей дочери Герцена — Лизы. Мы говорили о них так, как говорят об очень дорогих людях, которым надо помочь, которых можно пожалеть и предостеречь…
— Ну вот и посплетничали! — улыбался Корней Иванович, и мы снова возвращались к чтению.
Уходила я вечером. Пока я одевалась внизу, в прихожей, Корней Иванович стоял на верхней площадке, веселый, в узорчатом вязаном свитере. Чуть покачиваясь, то поднимаясь на носки, то опускаясь, он напутствовал меня:
— Смело несите свою статью в редакцию. Обязательно смело! Приучайтесь ходить по редакциям. Это тоже надо уметь, если решил стать литератором! — Он засмеялся и добавил не то грустно, не то насмешливо: — А я уж и не припомню, когда я впервые пришел в редакцию… Да, Лидочка, когда я начинал печататься, я был самый молодой среди литераторов, а теперь я самый старый! В России надо жить долго — интересно!
Я вышла на тихую улицу. Снег скрипел под ногами. Все вокруг сверкало и блестело, серебрились неподвижные и голубые от инея ветки. Не помню, какое было число, но эта ночь запомнилась мне как праздничная, рождественская. Я чувствовала себя словно после труднейшего экзамена. И не только потому, что Корней Иванович отнесся снисходительно к моей работе. Я чувствовала: больше, чем статьей, он остался доволен нашим разговором, ведь именно этому он и начал учить меня двадцать лет назад в затемненной, голодной и холодной Москве.
Читать дальше