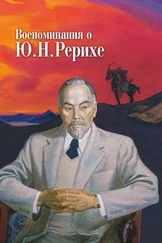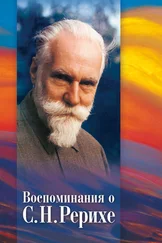1972–1974
H. Долинина
СКАЗОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Корней Чуковский был всегда. Это не мое индивидуальное ощущение; я уверена: это восприятие не одного поколения. Он был всегда, поэтому не только боль и горечь, но какое-то удивление возникает при мысли, что его нет больше.
Разглядеть его лицо я не могла: очень высоко. Запомнилась только седая голова (уже тогда седая, в 1933 или 1934 году), а может, он и не был тогда седым; может, я его спутала с Дедом-Морозом; оба они были из сказки, но Корней Иванович сказочнее.
Он стоял посреди зала, широко расставив ноги — не ноги, колонны, — а мы бегали внизу, водили хороводы вокруг каждой из этих ног, и самые храбрые осмеливались прикоснуться к черным брюкам. Я не решилась.
Это одно из моих первых воспоминаний, не очень подробное, но до того яркое, как будто все это — сегодня: и громадный зал в Союзе писателей (теперь я знаю, что это не очень большая комната), и елка, и сказочный человек, лица которого я не могу рассмотреть.
Через тридцать лет я приехала к нему в Переделкино. Он написал мне письмо, как писал десяткам людей, прочтя их статьи, стихи или книги; писал каждый раз, когда ему что-то понравилось, — для чего?
Тогда мне казалось естественным: прочел — понравилось — написал. Теперь, когда я неделями не могу собраться написать автору поразившей меня книги и нахожу себе тысячи оправданий, — теперь я снова и снова задаюсь тем же вопросом: как мог, как успевал, как сохранил в себе столько души восьмидесятилетний человек, чтобы не только читать все, но и еще отвечать делом на все прочитанное?
Он знал, конечно, как важно его слово для любого литератора, молодого и старого. В его сложившейся годами привычке откликаться на прочитанное, отвечать на все письма была железная дисциплина хорошо воспитанного человека. Но, кроме того, я думаю, здесь было и другое: не прошедший с годами интерес к людям. Постоянное ожидание чуда: а вдруг… В каждом новом человеке, молодом и старом, он искал этого «вдруг» — душевной неповторимости и незаменимости. Искал и находил, поэтому столько людей любило его нежно, каждый по-своему.
Письмо от него было для меня счастливой неожиданностью. Подумать только — Чуковский! Читал, похвалил, приглашает приехать.
Была зима, и когда я сошла с электрички в Переделкине, началась метель. Куда идти, я знала не твердо и остановилась в нерешительности. Впереди сквозь снег виднелись детские фигуры — я догнала трех девочек. Под мышками у них были книги, я поняла, что иду по верному следу.
— Девочки, вы в библиотеку?
— Не-а.
— Вы к Чуковскому?
Пауза. Удивленные глаза.
— Ну, к Корнею Ивановичу?
— Не-а. Мы к Корнейчуковскому.
Так они и обратились к нему позже:
— Здравствуй, Корнейчуковский.
Я очень боялась опоздать: мне было велено приехать к обеду, ровно в три. Загнав своих спутниц, я открыла калитку его дачи без десяти три. Навстречу мне двинулась высокая, чуть согнутая фигура в длинном пальто и теплой шапке, с лопатой.
— Здра-авствуйте, моя милая. Здра-авствуйте. А я вот… игра-аю. В Льва Николаевича.
Грешница, я подумала об этом, входя в калитку. Старый человек с лопатой, сам убирающий снег на своем дворе, а рядом, за забором, построенная им библиотека… Это напомнило мне Толстого, Яснополянскую школу, и я подумала теми же словами: в Толстого играет… Легкая ирония, с которой он сам сказал о себе, поразила меня, — в этом возрасте и с этой славой мало кто умеет относиться к себе с иронией.
Меня предупреждали: Корней Иванович любит заставлять новых людей читать ему вслух классиков. Что-то он проверял таким образом в человеке, что-то ему одному известное. Я была уверена, что выдержу испытание, — долгий опыт чтения вслух в классе выработал во мне необходимую учителю самоуверенность. Но он не попросил меня почитать вслух — ни тогда, ни после, и тщеславное огорчение долго мучило меня: не дал развернуться.
В какую-то из следующих встреч он печально и даже, пожалуй, зло рассказал мне о молодой женщине, читавшей ему «Мертвые души»:
— Ни разу не улыбнулась. Читает одну страницу, другую, третью — не смеется. Старательно произносит слова, и ей не смешно…
— Может, она со страху, Корней Иванович…
Он не принял моего возражения:
— Стра-ах, разумеется. Да, стра-ашно, если «Мертвые души» не заставляют улыбнуться.
Вот когда я обрадовалась, что он не заставил меня читать.
За обедом, к моему удивлению, были вино, водка, коньяк. Я знала, что Корней Иванович — воинствующий противник не только пьянства, но и выпивок, что сам он ничего не пил никогда и в доме не держал спиртного. Только в те последние годы, когда я с ним познакомилась, он завел вино для гостей.
Читать дальше