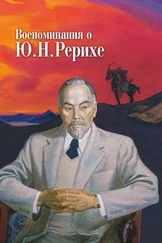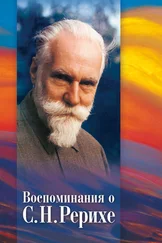Сопоставление заметок Чуковского на полях с его высказываниями о тех же книгах обнаруживает характернейшую, быть может, особенность «читательства» Корнея Ивановича. Эта особенность — необыкновенная многосторонность его читательского восприятия. Казалось бы, невозможно одновременно смотреть в микроскоп и в телескоп, ловить сразу и слонов, и блох, но чтение Чуковского требует, кажется, такой метафоры. В его чтении многие уровни восприятия сосуществовали одномоментно: уровень непосредственно читательский, уровень художественного редактора, критика, литературоведа, даже — корректора и техреда.
Богатство уровней, «многоэтажность», разносторонность его читательского восприятия были тем арсеналом, который обеспечивал неожиданную «дополнительность» его суждений. А острая точность этих суждений базировалась на изощренной и талантливой пристальности, наблюдательности, приметливости.
Вот Корней Иванович читает книгу писателя, которого любит самой нежной любовью, писателя, в судьбе которого он и сам принимал самое деятельное участие, когда тот еще не был всесветно знаменит, а был безвестным худым подростком, резким от застенчивости. И на каждом шагу отмечает отменное мастерство писателя: «очень умело, как по нотам разыгран» вот этот рассказ, а вот в этом рассказе «каждая сюжетная ситуация разработана наиболее выигрышно, доведена до самого яркого блеска», «каждый персонаж имеет в рассказе определенную роль» — даже третьестепенный, появляющийся, чтобы произнести одну реплику, и вообще «во всех рассказах концовки у него эффектны» (следует ряд цифр — страницы этих концовок).
Но он, читатель, не может обойти тот прискорбный факт, что на странице сорок девятой автор недоглядел: в одной фразе герой убегает, «хлопнув дверью», а в следующей — «хлопали пробки», когда тот возвращается. Нельзя не заметить, что на странице двадцать пятой герой «картавит на бук-вер» словно бывает картавость на другой букве. Нужно обратить внимание также на страницу пятьсот девяносто вторую, где «реплика несется в адрес красноармеек». «В адрес» — ох, как нехорошо! «В адрес» — эта разновидность русского языка ненавистна автору книги не меньше, чем его читателю, а вот поди ж ты…
В тексте одного из очерков упоминается Хлебников как один из любимых поэтов героя. «Хлебников?» — записывает Чуковский в конце тома. То есть действительно ли герой очерка так уж любил Хлебникова? Но на всякий случай, впрок, замечает: «Процитировать в Хрестоматии футуризма», — в работе, которую он к моменту этой записи не переиздавал лет этак около пятидесяти (попутно исправляется опечатка).
И отчеркивает на полях все места, где по тому или иному поводу упоминается Чехов: такой-то писатель любил Чехова (учесть!), в рассказе «Гусев» как-то не по-чеховски густо, живописно, многоцветно изображен заход солнца (неживописность Чехова — один из распространенных предрассудков!), такой-то, подобно Чехову, умел прятать свои подлинные настроения под маской шутки.
А вот тут воспоминания о том, как любил Горький Михаила Зощенко и великолепно, почти дословно, воспроизводил его рассказы. Может быть, пригодится для работы о Зощенко…
На одной странице автобиографической повести рассказывается о круге чтения юного героя — это очень важно и для героя, и для автора, и для него, читателя Чуковского: скажи мне, что ты читаешь… записывается номер страницы и краткое: «Что читал».
Специальная запись отмечает удивительную память автора на слова и обороты живой речи. Но тут же, чтобы не оставалось сомнений в природе писательского дара, добавлено: «Не работа памяти, но работа большого искусства».
И несмотря на то, что у писателя репутация художника, работающего в стиле строгом, точном, сдержанном, избегающем внешней броскости, Чуковский, наперекор установившемуся критическому канону, вновь и вновь отмечает — его эффектность. В другом случае, в книге, натужно стремящейся к броским эффектам, это было бы бранью, но здесь это хвала. Эффектный ход, эффектная реплика, эффектная концовка, — и, конечно, Чуковский не был бы самим собою, если бы даже здесь, в заметках для себя, не стремился прочертить доминанту творчества писателя и через его жизнь: оказывается, у того «очень эффектная биография».
У нас на глазах чтение превращается в прочтение. Так было всегда у Чуковского. Критик вообще начинается с читателя, читателем же он и заканчивается, но как много заключено в промежутке! К Чуковскому слово «критик», объединяющее его с легионом газетно-журнальных рецензентов, следует относить с оговорками. Он был не столько критик, сколько художник критического жанра. Недаром писатели стремились быть прочитанными Чуковским, как добивались чести портретироваться у Репина, — Чуковский всегда видел в художественном произведении нечто сверх того, что видели другие. Первой главой работы о Чуковском-критике, конечно, должно стать исследование о Чуковском-читателе.
Читать дальше