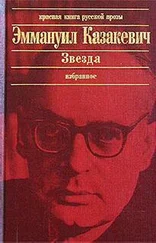Даже сержант Майборода - ординарец, или, как он сам себя называл теперь по-морскому, "вестовой", капитана Акимова, человек сугубо практичный и прижимистый, до войны - заведующий буфетом, да еще на железной дороге, да еще в Конотопе, то есть человек прозаический до мозга костей, - даже и он относился к своему командиру, бывшему моряку, по-особому.
Вообще Майборода считал, что людей без недостатков не бывает, и склонен был серьезно преувеличивать эти недостатки. Если же такие люди существуют, думал он, то это только значит, что они умеют искусно скрывать свои дурные стороны, и стоит с ними пожить подольше, чтобы обнаружить плохое в них.
Однако в Акимове он не находил недостатков, хотя был его ординарцем уже три месяца - срок на войне немалый. То есть не то чтобы не находил. Недостатки были, но Майборода считал их до неправдоподобия незначительными. Акимов был вспыльчив. "Попробуй не вспыли, когда кругом такая беда", - рассуждал Майборода. Акимов был иногда несправедливо резок со своими подчиненными. По этому поводу Майборода говорил другим солдатам: "С нашим братом будешь мягкий, он на голову сядет".
Большая голова Майбороды с кривым носом и заплывшими глазками была между тем полна тяжелых мыслей, потому что семья его находилась под немцем, в Конотопе. Свою хлопотливую службу он нес образцово, но выглядел при этом очень унылым, очень скучным и чем-то недовольным. Он любил побрюзжать, собеседников прерывал издевательским и приводящим многих в ярость вопросом: "Ну и что?" - и вообще был в общежитии мало приятным человеком.
Только в присутствии Акимова, как в присутствии любимой девушки, он преображался. Все в Акимове - простоватый вид, под которым, как хорошо знал Майборода, крылись большой ум и недюжинное знание жизни, меткие слова, задумчивая усмешка и оглушительный хохот, - все это действовало на ординарца, как шпоры на добрую лошадь, все это вырывало его из плена тяжелых мыслей о себе, своих детях, своей жене, своем положении, своем будущем - всех тех мыслей, с которыми он прожил жизнь.
Он больше всего любил минуты, когда во время затишья на фронте Акимов, обычно лежа, рассказывал разные истории о боевых действиях моряков и вообще о флоте. Он часто расспрашивал Акимова о флотской службе и о море, которого сам никогда не видел.
- Объяснить это трудно, - отвечал Акимов, улыбаясь той задумчивой усмешкой, которая обычно тут же, как в зеркале, хотя и чуть кривом, отражалась на лице Майбороды. - В общем, это просто много воды, но это не похоже на воду в понимании такой полевой мыши, как ты. Это целый мир. Как нельзя, собрав много червей, сделать змею, так нельзя, собрав вместе сто рек, устроить море. Море - это дело особое. У него свой запах, свое небо, свой свет и своя тьма. Поверхность его меняется в цвете. С суши оно кажется темным и чем ближе к горизонту, тем темнее. А по этой темной массе, наподобие барашков в стаде, двигаются белые пятна. А если глядеть на море с корабля далеко от берега, то оно кажется синим... - Досадуя на то, что, несмотря на обилие слов, он все-таки не может толком объяснить, в чем дело, Акимов неизменно заканчивал так: - Надо на это самому посмотреть. Коли живы останемся - поедешь со мной в Севастополь или Одессу.
3
Землянка комбата Акимова славилась во всех здешних оврагах батальонных и ротных - своими удобствами. Об удобствах заботился Майборода, и все офицеры сильно завидовали Акимову, имевшему такого ординарца.
Пол здесь был выложен целехонькими, хотя и почерневшими от пожара кирпичами, поверх которых была настлана солома. Железная печурка накалялась тут до красна; возле нее всегда сушилась целая гора дров. Правда, это были не настоящие дрова - березовые или сосновые, по которым тосковала душа Майбороды, - а всего лишь тонкие ивовые прутья. Но в других землянках зачастую и таких не было. Прутья эти Майборода под пулями немцев рубил на берегу ручья, извивающегося вдоль переднего края, и тащил их оттуда вязанками, иногда ползая по-пластунски. Такими же прутьями были густо оплетены сырые стены.
Здесь стояли стол и две скамейки, на гвозде висел темно-синий снаружи и ослепительно белый внутри, мирный, как голубь, эмалированный таз, бог весть где приобретенный. Нары здесь были не земляные, а настоящие, дощатые.
В землянке был даже патефон. Правда, иголок не имелось вовсе, но Майборода приспособил швейную иголку, которая, право же, ничем не уступала настоящим. Пластинок было всего четыре, и те - не песни, а инструментальная музыка, что вначале всем очень не понравилось, показалось скучным и никчемным. Но потом к этим песням без слов привыкли, уловили их сильную и тонкую мелодию. Они проникали в сердца медленно, но настойчиво. В спокойные часы солдаты даже напевали, лежа в мокрой траншее, вперемежку с родными песнями "классику", что особенно радовало душу бывшего учителя истории, а ныне замполита, капитана Ремизова.
Читать дальше