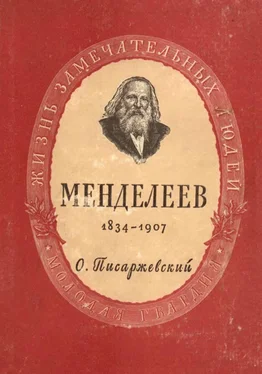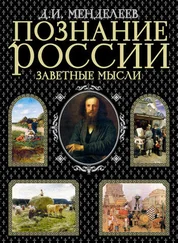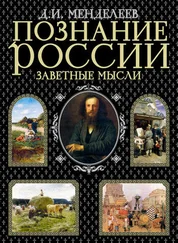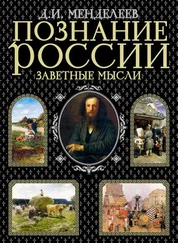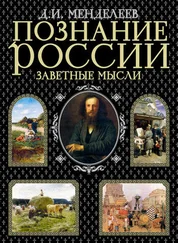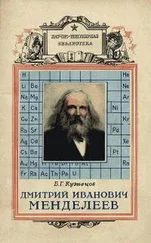Это были печальные августовские дни окончания осады Севастополя. Тяжело было находиться совсем рядом и не иметь возможности участвовать в этой борьбе.
Письма Менделеева становились с каждым днем все меланхоличнее:
«По дороге к Севастополю… идут постоянно войска; по этой дороге открывается… вид на наш жалкий, в сущности, городок».
Это, конечно, себя, а не городок, жалеет Менделеев.
Никогда еще он не жил так нелепо! Произошло самое для него страшное: ему нечего было делать. Он набросился бы на преподавание, но гимназия была закрыта. В предместьях Симферополя раскинулись палатки Красного креста, и стоны раненых смешивались с завываниями скрипок в импровизированных ресторанах.
Менделеев делил с инспектором гимназии маленькую каморку при гимназическом архиве. Городская комната с глиняным полом стоила бы тридцать рублей из тех тридцати трех, которые он получал. Он томился и мучительно завидовал офицерам в пыльных мундирах. Война – это ведь тоже труд, напряженный, героический и захватывающий.
Бродя по окрестностям, Менделеев беседовал с офицерами переформировывавшихся поредевших полков. У союзников была прекрасная артиллерия, нарезные многозарядные ружья (штуцеры) против русских гладкостволок, заряжавшихся с дула. С гордостью за русского человека Менделеев узнавал вместе с тем о бессмертных подвигах Нахимова и его соратников на бастионах города-героя.
Попутно Менделеев навещал лазареты, там мелькал неуловимый Пирогов. Слава о великом хирурге обгоняла его самого, и раненые начинали чувствовать себя лучше, лишь только разносилась весть о возможном его появлении. Он являл блестящий пример самоотверженности, с которой наука обязана служить народу. До Пирогова в армии существовали отдельные врачи. Пирогов призвал на службу войску медицину. Пирогов учил смотреть на войну, как на своего рода эпидемию. В том, что эпидемия требует плановой борьбы, организованных, коллективных усилий,-в этом все, более или менее, отдавали себе отчет. Пирогов требовал, чтобы помощь раненым была продумана так же, как продумываются все детали борьбы с эпидемией. Врач должен позаботиться обо всем: и о перевозке больных, и о том, чтобы эта перевозка не привела к ухудшению, об условиях «сберегательного лечения», о способах достижения у больного подъема сил, который должен помочь врачу. Пирогов первый ввел гипсовые повязки переломанных конечностей. Он первый отказался от прощупывания свежей раны зондом и первый же ввел наркоз при операциях.
Менделеев с восхищением слушал рассказы о знаменитом хирурге, но не слишком настойчиво его искал. Он заранее предвидел, что могло произойти. Пирогов велик, но он бесконечно занят. Собственными руками он делает ежедневно десятки ампутаций. Усталый, он небрежно осмотрит этого нескладного чахлого учителя несуществующей гимназии и скажет все то же безличное, равнодушное и уклоняющееся: «Больше отдыхайте, не утомляйтесь, старайтесь гулять».
Иногда в письмах Менделеева брату мелькают лики южной природы: «синева южного неба, темная, мягкая синева, о какой в С.-Петербурге нельзя иметь и понятия…»
Но что до того Менделееву!
«Юг, который так влечет тебя, – пишет он в другом письме, – этот юг, поверь, хорош только на севере, да два-три месяца в году, а то бог с ним. Меня сильно порывает быть в Сибири, и, может быть, как-нибудь через Географическое общество удастся побывать. А летом непременно поеду в Петербург, разве что особенное удержит».
Но вот встреча с Пироговым, наконец, состоялась. Пирогов выслушал страстную жалобу своего неожиданного пациента. Это жалоба не столько на болезнь, сколько на терзания от неподвижности, на тоску от бездеятельности. Это крик о неудовлетворенной жажде творчества. Главный хирург действующей армии достаточно часто видел людей, и впрямь находящихся на краю смерти. Он хорошо знал признаки вспышки внутреннего огня, который подчас судорожно озарял последние минуты угасания. А этот худощавый, бледный юноша бурлил, как котелок, у которого плотно закрыта крышка. Пирогов с интересом осмотрел его, выстукал и просиял:
– Нате-ка вам, батенька, письмо вашего Здекауэра, – сказал он. – Сберегите его да ему когда-нибудь и верните. И от меня поклон передайте. Вы нас обоих переживете…
Это говорил сам Пирогов!
Менделеев был готов ко всему, но только не к помилованию.
От радостной растерянности он молчал.
На прощанье Пирогов надавал советов, как приноровиться к шалостям сердца, неизбежным, но не опасным; как беречь себя, не превращаясь в то же время в тоскливую, неприкаянную тень человека.
Читать дальше