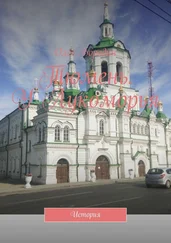За скворцами прилетели утки, цапли. Два аиста облюбовали старую ганнибаловскую липу со сбитой снарядом верхушкой и начали вить гнездо. Запела серебряную песню иволга.
— Раз аисты прилетели, значит, всё будет! — Это сказала тетя Шура Федорова, а может быть, дядя Леня Бельков, только что вернувшийся после ранения из госпиталя, а может быть, Вася Шпинев — мастер на все руки. Все они были местные жители, и Пушкин был для них своим, родным человеком. И всем им надо было налаживать свои жизни на этом пустом месте.
Трава пошла в рост. Посеченные осколками березки чудом пускали новые побеги. На треть подпиленная могучая сосна, на которой был наблюдательный пункт и которую фашисты не успели срезать, заплывала смолой и оживала. Из-под векового дуба в Тригорском по бревнышку был вытащен весь блиндаж, а пустое пространство было забито землей и навозом. И дуб стал охорашиваться, и при некоторой доле воображения в его зеленых листьях можно было заметить скрывающихся русалок.
Могила Александра Сергеевича от взрыва оползла, и каменный склеп пришлось перекладывать заново и укреплять.
Всё было растащено, разгромлено, разворовано фашистами. Но директор заповедника и люди, работающие с ним, верили святой верой в то, что всё будет так, как было, и не жалели для этого сил, работая от зари и до зари.
Первым был восстановлен домик няни.
И тетя Шура, полушутя-полусерьезно изображая Арину Родионовну, села у окна светёлки, подперла двумя пальчиками щеку и певучим голосом сказала:
— Вот, бывало, зайдет сюда ко мне Александр Сергеевич и скажет: «А не выпить ли нам, Арина Родионовна?» — «Что ж, — отвечала я, — это можно…» — и шла в погребок за наливочкой, а погребок-то вот тут рядом, под окошком, и был.
Теперь этот погребок тоже восстановлен.
В 1949 году был отстроен дом Пушкина и состоялось торжественное открытие заповедника.
Я хорошо помню прекрасный июньский полнокровный день Пушкинского народного праздника. Я нарочно подчеркиваю народного, потому что на нем, в этот благословенный день, наполненный солнцем и грозой, ливнями света и радугами, свистом птиц и пересверком молний, всех — и почтенного академика, и колхозника — объединяла одна святая любовь к чуду своего народа, к чуду своего языка — к вечному Пушкину.
Со всех континентов на это неумирающее торжество поэзии съехались поэты, и их разноязыкие голоса, усиленные репродукторами, звенели в промытой буйной зелени, и к ним прислушивались пестрые праздничные толпы людей и в самом Святогорском, около могилы поэта, и в Михайловском, на широком лугу у входа в усадьбу.
Я запомнил на все времена, как люди входили в домик Арины Родионовны, разувшись, чтобы не запачкать полы и не спугнуть той святой тишины, которая свойственна только высокому духовному настрою.
А этим настроем был пронизан весь праздник рождения поэта.
И среди этой праздничной, восхищенной и зачарованной толпы то тут, то там мелькала сухая высокая фигура резкого в движениях человека с выразительным острым лицом, с доброй улыбкой и густым наплывом русых волос, спадающих на глаза. Он то и дело поправлял их или единственной правой рукой, или характерным взмахом головы. Он объяснял, советовал, показывал. Он был весь в движении. И незримое чувство удовлетворенности содеянным, может быть даже неосознанное, делало его прекрасным.
Я залюбовался им.
Потом жизнь подарила мне Семена Степановича в друзья. И от этой дружбы я стал богаче, уверенней в жизни, наполненней.
И сам Пушкин стал для меня другим, куда более глубоким и многообразным, куда более трагическим в своем одиночестве.
Только здесь во всей полноте я понял, насколько Пушкин народен.
Сколько раз я бывал в Михайловском, мне теперь уже и не припомнить. Я ездил туда ежегодно и зимой, и летом, и ранней весной, и в пору золотой осени. Ездил как к себе домой. Сколько вечеров мы прокоротали за разговорами около лежанки в за. ставленной книжными полками квартире Семена Степановича или гуляя по тропинкам и аллеям заповедных парков и лесов, — уму непостижимо! Мне всегда там хорошо работалось, хорошо думалось и о мире, и о людях.
Сейчас в самом Михайловском, в Тригорском, в Святогорском монастыре восстановлено всё. Летом 1977 года предполагается открытие Петровского, — и всё будет, как при Пушкине. Важна даже не точность реставрации, важно то, что восстановлен сам дух природы, которая когда-то очаровала Пушкина. «Ель-шатер» рухнула, посеченная во время войны пулями и осколками, липы на аллее Керн подозрительно скрипят во время ветра, а иногда и падают замертво, — что поделаешь, деревья тоже старятся, — но вместо них растет новая поросль. На месте трех сосен поднимается вершинами другое «племя, младое, незнакомое». Но оно по духу своему похоже на то, которое видел сам Пушкин.
Читать дальше
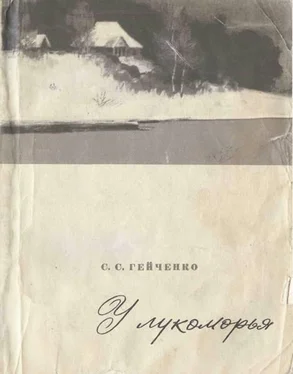


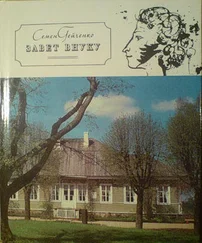


![Семен Гейченко - У Лукоморья [5-е изд.]](/books/434428/semen-gejchenko-u-lukomorya-5-e-izd-thumb.webp)