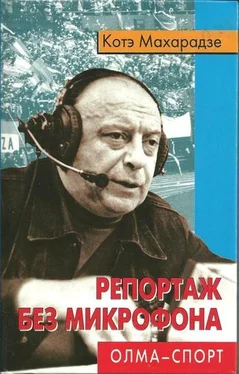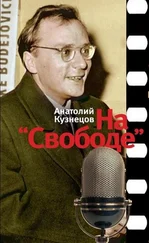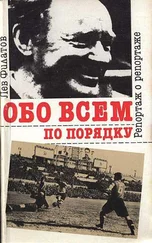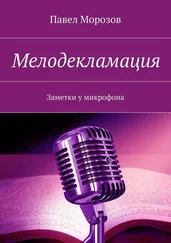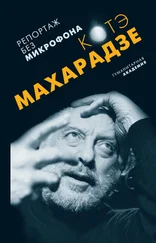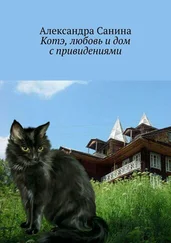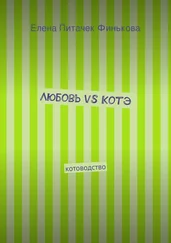Что же делать, если читателей романа, скажем, 10 миллионов человек? Получается, столько же разных образов Раскольникова? 10 миллионов Пьеров Безуховых и Карениных, не похожих друг на друга? А артист может создать только одного. Попробуй-ка убедить остальных в верности своей трактовки, в достоинствах созданного тобой образа!
Я не говорю о тех прирожденных, ортодоксальных оппонентах, приверженцах отрицания всего, которые не приемлют даже оперу по той простой причине, что там поют, а не разговаривают. Бытует ведь и такое утверждение, что «петь и танцевать чувства» — невозможно. Благо, не все так думают, не то не видать бы нам с вами балета Минкуса «Дон Кихот» и оперы Гуно «Фауст». Ведь опера лишь отдаленно напоминает великое творение Гете. В Германии очень долго называли ее просто «Маргаритой», но никак не «Фаустом», не допуская «осквернения» эпохальной темы хотя бы на Родине автора.
Аккуратно разводящий руки (чаше подобранный из статистов), самый длинный в труппе мужчина, очень условно называющийся Дон Кихотом, со своим толстым оруженосцем — только они и напоминают о героях великой книги. Ничего другого от Сервантеса в балете нет и в помине.
Но ведь в опере и балете самым важным и ценным является то, что создана прекрасная музыка. Не слыхать бы нам «Заклинания цветов» и куплетов Мефистофеля в исполнении Шаляпина, не насладиться великолепным гран-па Максимовой и Васильева, не ахнуть всем залом, наблюдая за парениями Вахтанга Чабукиани, увидев которого в этой партии, великий русский певец Собинов воскликнул: «Это — чудо природы!»
Так стоит ли спорить, если выгода столь явно превосходит потери, и отказываться от шедевров, лишать себя удовольствия насладиться великолепным зрелищем. Эдак можно придраться и к самому Гете: он, если не изменяет память, был двадцатым или двадцать вторым по счету, но никак не первым среди тех, кто взялся за тему Фауста.
Так что частые обращения театра к лучшим произведениям мировой литературы заслуживают поощрения и в тех случаях, когда многое из первоисточника потеряно, если, конечно, все это возмещается талантливыми режиссерскими находками, удачными актерскими работами, хорошей сценографией. Примеров немало: та же «Анна Каренина» в постановке Немировича-Данченко, «Идиот» — Товстоногова. Прекрасные актерские работы: Хмелева в роли Каренина, Смоктуновского — князя Мышкина, Васо Годзиашвили — Луарсаба Таткаридзе и т. д.
Так что не стоит отказываться от инсценировок. Пусть это компромисс, но — допустимый, если сначала же договориться, что без издержек не обойтись.
Специально пересмотрел несколько изданий «Анны Карениной» — нигде нет меньше 750 страниц. А инсценировка, напечатанная в том же формате, вряд ли займет больше восьмидесяти, ну, сотни страниц. Ни о каком полном отображении всей многоплановости, всех сюжетных линий, коллизий и глубины толстовских идей не может быть и речи.
Скажу прямо: наша «Анна Каренина» ни у нас, в Тбилиси, ни в Москве успеха не имела. Я играл Каренина и, как участник спектакля, скорее всего не смогу сохранить полную беспристрастность. Подсознательно я, вероятно, понимаю, почему столь необычная и интересная инсценировка не была доведена нами до высокой сценической кондиции, но утверждать не берусь. Хотя несколько фраз в ее — инсценировки — защиту не сказать не могу.
Автор Лали Росеба смело отошла от привычного треугольника: Анна — Вронский — Каренин. Адюльтер не стал главным для автора — в этом была принципиальная новизна, так как во всех других инсценировках главенствовала именно эта сюжетная линия — броская, эмоциональная, захватывающая. Ее помнят даже те, кто прочел роман в далекой юности. В нашей же инсценировке главным героем стал Константин Левин. Впрочем, и у Толстого это именно так… Левин и есть прототип автора, в нем преломляются основные идеи произведения.
Я прекрасно понимаю, что количество страниц и глав не всегда прямо пропорционально значимости, но все-таки отмечу, что линия Левиных и Облонских занимает у Толстого добрых две трети, если не больше, всего романа. «Все смешалось в доме Облонских» — с этих ритмически насыщенных слов начинается вторая фраза романа, как бы сразу определяя отправную точку событий.
Как выстраивает сюжетную линию Толстой? Мы уже познакомились с Облонскими, уже промелькнул холеный Алексей Вронский, уже екнуло юное сердце Кити при виде красавца офицера… А главной героини романа все нет и нет. Она появится лишь в восемнадцатой главе, а Алексея Александровича Каренина придется ждать аж до тридцатой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу