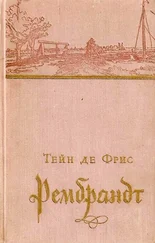Рембрандт всегда хотел создать новое видение богов и героев. Он ни в чем не отступил от своей манеры выделяться из общей массы. Он стоял на своем. Любопытно, что писатели его времени ни словом не обмолвились о его странности в этой области. Самые близкие ему историки неустанно повторяли, что он не знался с блестящими умами своего времени, довольствуясь компанией заурядных людей, и еще сегодня подчеркивают тот факт, что его библиотека едва ли насчитывала двадцать томов. Необразованный Рембрандт? Рембрандт-мужик? Возможно, он и не читал горы книг, как хотелось бы литераторам, но известно, что он читал Библию, толковал ее на свой лад в одиночку и ему этого было довольно. Он знал все, что ему нужно было знать. Возможно, ему были неинтересны ссылки на Античность, которая вдохновляла поэтов. Когда поэт Иеремиас де Деккер нарушил традицию презрительно отзываться о Рембрандте, которой следовал его учитель Вондель, и восславил художника, сравнив его с Апеллесом, античным живописцем, единственно достойным написать портрет Александра Великого, тот наверняка порадовался этой поддержке, но, в отличие от писателя, которому было неважно, что он никогда не видел произведений Апеллеса (достаточно того, что о нем говорил Плиний), Рембрандт захотел на него взглянуть.
В таких условиях уже то, что он вступил в пределы античного Гуманизма, яростно оберегаемые теоретиками и литераторами, нельзя истолковывать как самомнение невежды, отважившегося нарушить границу заповедных владений. От «Андромеды» (1630), «Дианы и Актеона» (1632), «Артемиды» (1634) и до «Юноны», написанной тридцатью годами позже, виден путь читателя Овидия и Тита Ливия, коим он являлся, отвергавшего притом все второстепенные детали, все условные жесты, чтобы осталась лишь История и Легенда; намеренно пренебрегавшего в своем искусстве повествованием, дабы очевиднее стала живопись.
И снова Вондель. В 1663 году, работая над переводом «Метаморфоз» Овидия, он сочинил «Фаэтон» – историю сына Феба, возомнившего, будто сможет управлять колесницей Солнца. Юнона в действии. Пути Вонделя и Рембрандта по-прежнему пересекаются. Хармен Беккер жалуется на то, что не получил «Юноны».
Рембрандт не соблюдал сроков. Картина не закончена. Прекрасно видно, что украшение, поддерживающее мантию, всего лишь намечено с левой стороны. То же относится к левому рукаву, набросанному в нескольких перекрестных линиях вышивки. Блеск золота получился, но сама вышивка лишь в зачаточном состоянии. Что до руки, лежащей на красной опоре, она лишь намечена, но так мощно, что производит впечатление удара кулаком по красному сукну, печати властности богини. Да, Рембрандт не закончил картину, но Хармен Беккер принял ее и в таком виде: она значится в описи имущества, сделанной после его смерти в 1678 году, через девять лет после кончины художника. Наверное, она ему нравилась, раз он ее хранил.
После «Юноны» – «Лукреция». Надо полагать, Рембрандт читал Тита Ливия, чтобы узнать историю верной женушки, чья добродетель была поругана Секстом Тарквинием и которая покончила с собой, не в силах пережить бесчестия. Или же он слышал эту историю или видел спектакль в Амстердамском театре, где как раз открыли новый зал в итальянском духе на месте старого, которым по-прежнему руководил восторженный почитатель Рембрандта Ян Вое? Книга или спектакль? И то и другое – часть обычной культуры. Но отправные точки следует поискать и в живописи. В Италии сюжет о Лукреции порождал изображения мужчины, насилующего женщину. У Тициана Тарквиний угрожает обнаженной Лукреции кинжалом и опрокидывает ее. Изнасилование сейчас состоится на наших глазах. Женщина красива, мужчина силен. Отрадное было бы зрелище, не будь оружия, бесчестящего любовь. В Германии Альбрехт Дюрер, как и Лукас Кранах, обращались к следствию изнасилования – самоубийству Лукреции. На этот раз кинжал в ее руке, и она собирается пронзить им свое сердце. Жалко присутствовать при смерти такой красивой женщины, ибо Лукреция опять-таки нагая, и нагота ее прекрасна.
Рембрандту, наверное, были знакомы все эти версии. Но его собственное видение события вылилось в изображение аристократически одетой женщины с серьезным лицом, сдерживающей слезы и приставившей к груди кинжал. Разве не естественно, что целомудренная и верная супруга не осталась нагой, какой ее застал Тарквиний, а, решив предать себя смерти, облачила свое обесчещенное тело в одежды, наиболее достойные для похорон? Таким образом Рембрандт, перечитывая Тита Ливия или присутствуя на представлении трагедии, не обнаружил ничего, что оправдало бы наготу в момент самоубийства, и исправил живописную традицию. Что касается женского типа, выбранного им для этой картины, то в нем есть что-то от Хендрикье – такой, какой он увидел ее однажды в проеме окна, но Хендрикье похудевшей, серьезной. Эта Лукреция – своего рода посмертное воскрешение Хендрикье в его живописи, как и посмертный портрет Саскии. На этот раз на картине отображены лишь черты лица. Интимная жизнь удаляется из творчества. Она проникает в него лишь намеками, через обрывки воспоминаний. Рембрандт не принял смерть Саскии. Но он смирился с кончиной Хендрикье. Точнее, его живопись уже не силилась создать портрет. Она более не разделяла изображение любимых им людей и творчество, которым он продолжал заниматься для себя самого. Все шло по единому пути, и сходство, по крайней мере поверхностное, отныне отступило.
Читать дальше