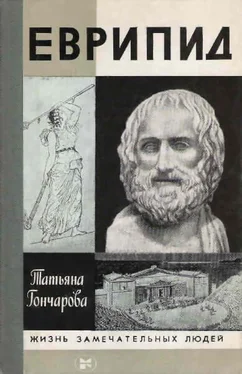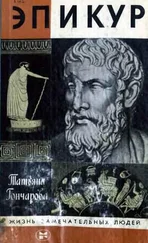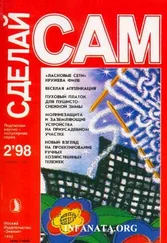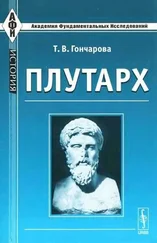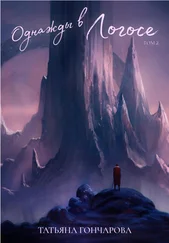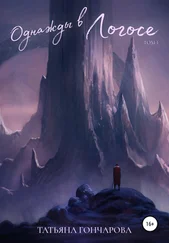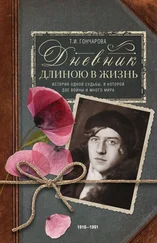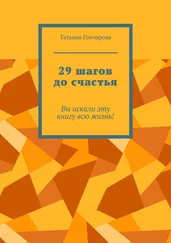Отец! Отец! Его проклятье черное
С меня сухих — в них слез нет — не спускает глаз
И говорит, что лучше умереть скорей.
Гибнет и их сестра Антигона: нарушив приказ старейшин, она похоронила Полиника и потом покончила с собой, замурованная заживо в царской гробнице. Так кончается род совершившего преступление Лаийя:
Проклятья древнего не смирить,
Когда приходит возмездья срок.
И вот она настает, расплата…
В описании ужасов войны, ярости обуянных Ареем героев, в страстных и мощных стихах Эсхила еще довлел героический дух недавней войны, это писал человек, сам побывавший во власти ее грозного бога. Но это было не только воспоминание, это было и предвидение будущего, предостережение против братоубийственной вражды между эллинами, которая, как с горечью замечал старый поэт, растет с каждым годом и вот-вот может вылиться в открытое столкновение. Он боялся, что греческие города погубят друг друга, как братья Этеокл и Полиник, и хотел предостеречь от этого афинян.
Юноша Еврипид, как и большинство его сограждан, не мог не испытывать восхищения перед сумрачным гением марафонского воина, его титаническими образами, но он (что стало особенно ясно впоследствии, когда он обратился к тем же самым мифам и героям) видел и человека, и жизнь, и управляющие ею законы, и даже сам театр несколько иначе. Его манили, влекли к себе непознанные глубины людской души, остававшиеся огромной неразгаданной тайной не только для него, но даже для тех мудрецов и философов, которые так или иначе пытались объяснить устройство Вселенной и происхождение нашего мира. Уже в молодые годы сын Мнесарха смутно чувствовал, что силы, таящиеся внутри человека, не менее значимы для течения жизни, чем грозные силы беспредельного Космоса, что по природе своей они схожи между собой, что мысль человека, его любовь или ненависть, великая жажда нового, ведущая его ко все новым открытиям и приобретениям, — все это движет миром, и горе тому народу, где эта мысль дремлет в бездействии, горе и народу, среди которого ненависть возобладает над любовью. Возможно, что в эти свои молодые годы Еврипид и сам не смог бы достаточно ясно объяснить, почему его так привлекает к себе жизнь души и сердца, почему он ищет в любви разгадку многого из того, что творят и всегда творили люди, да и сама любовь понималась им далеко не философски — не как та великая Любовь к себе подобным, к которой воззвал, измученный и разуверившийся род людской спустя три с половиной столетия, но всего лишь как Эрос — непреоборимая страсть, влекущая мужчину и женщину, которая часто оказывается сильнее законов неписаных и писаных, которая рушит судьбы и колеблет государства.
И долго, довольно долго (и в этом его не раз обвиняли соотечественники, многим из которых, вероятно, было недоступно чувство любви в такой мере, какая выпала и на долю самого поэта и какой он наделил своих героев) Еврипид видел в великой священной силе, связующей мужчину и женщину, первопричину многого из того, что происходит в мире, не говоря уже о счастье или несчастье каждого из смертных. Он был еще слишком молод для того, чтобы вполне проникнуться непреходящей важностью тех вечных вопросов, на которые пытался ответить в своих сумрачных творениях великий Эсхил; о загадках сердца молчали философы; большинству окружающих его людей казалась непристойной сама тема любви и связанного с нею страдания, и лишь в прекрасных элегиях поэтов минувших веков сын Мнесарха находил то, что волновало, теснило, наполняло томлением его собственную душу. Он находил это в меланхолических размышлениях Мимнерма из Колофона, изящных стихах беспечного (или же казавшегося беспечным после стольких и стольких разочарований и утрат) Анакреонта, в песнях мятежного духом Алкея и, конечно же, в страстных излияниях Сапфо, и ему казалось удивительным, неправдоподобным, что для этих людей, живших задолго до него, в, казалось бы, более грубые времена, счастье любви, боль разбитого сердца тоже были самым главным.
Их изысканная лирика, поэзия утонченных людей, свободных от каждодневных забот о хлебе насущном и целиком погруженных в мир собственных чувств, расцвела в VII и VI столетиях на больших островах Эгейского моря, культура которых тогда была выше, чем в Афинах и других греческих полисах. Особенно славился своими песнями остров Лесбос, населенный издревле музыкально одаренными, склонными к поэзии эолийцами. Согласно преданию именно к этому острову приплыла по волнам от фракийского побережья голова Орфея, растерзанного менадами, и его лира хранилась с тех пор здесь, в святилище Диониса. И возможно, поэтому были так вдохновенны творения лесбосских поэтов Алкея и Сапфо, дочери Скамандропима и Клеиды, имя которой вошло на века в легенды. Супруга богатого митиленского гражданина, уважаемая согражданами, она главенствовала над Домом муз при святилище Афродиты и обучала пению девочек. В смутные годы гражданских междоусобиц, как женщина богатая и знатная, должна была искать на время прибежище в Сицилии. Но, вероятно, ни хор, ни семья ее — дочь Клеида, «родная, золотая, что весенний златоцвет», ни ее положение в городе не были для Сапфо главным, ее душа, жаждущая красоты нетленной и высшей, страдала от одиночества, и, как доносят предания, поэтесса покончила с собой, бросившись в море, от неразделенной любви к человеку, примечательному, в сущности, лишь тем, что его любила Сапфо.
Читать дальше