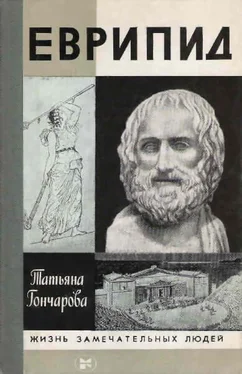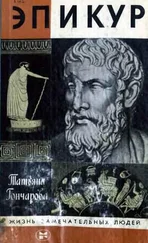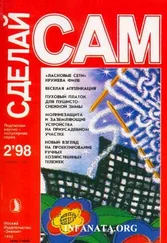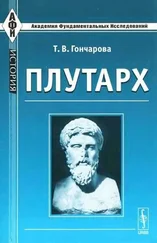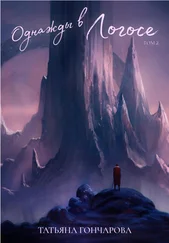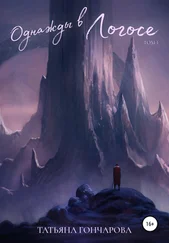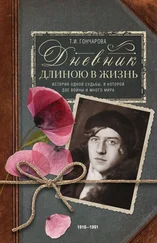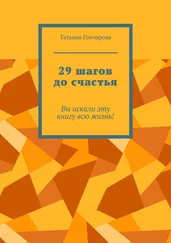Грек, цари, а варвар, гнися!! Неприлично гнуться грекам
Перед варваром на троне. Здесь — свобода, в Трое — рабство.
Успокаивая свою мать, сомневающуюся в необходимости столь страшной жертвы, Ифигения словно вторит афинским демагогам конца Пелопоннесской войны, прикрывающим своекорыстные экспансионистские устремления давно уже обесцененными патриотическими лозунгами:
А еще… Прилично ль смертной быть такой жизнелюбивой?
Разве ты меня носила для себя, а не для греков?
Иль, когда Эллада терпит и без счета сотни сотен
Их, мужей, встает, готовых весла взять, щитом закрыться
И врага схватить за горло, а не дастся — пасть убитым.
Мне одной, за жизнь цепляясь, им мешать?.. О нет, родная.
А с другой стороны — это глубоко беззащитная молодая девушка, почти ребенок, всеми обманутая и преданная, вычеркнутая из жизни своими близкими. Ей так не хочется умирать, умирать, не познав радости жизни, мужской любви, материнства, что ей до победы, которую она никогда не увидит:
А под землей так страшно… Если кто
Не хочет жить — он болен: бремя жизни,
Все муки лучше славы мертвеца.
И какая же из этих Ифигений настоящая, именно такая, какой она должна быть? У Еврипида нет однозначного ответа на этот вопрос, как, в сущности, и на все другие вопросы, которые он когда-либо ставил. Он не подходит к миру с заранее заданными парадигмами, как Софокл, и в этом его слабость — потому что вопрос остается открытым и зрителям не всегда нравилось это. Но в этом же и его сила: поэт следует течению жизни, ее бесконечному внутреннему диалогу, который дано услышать лишь очень и очень немногим. И главное в нем — это сомнение, сомнение, подтачивающее радость земного бытия, но и двигающее это бытие вперед, сомнение, которое Еврипид вкладывает на этот раз в уста Клитемнестры:
Дитя мое… Добычей рук бессмертных
Ты сделалась… Как призывать тебя?
А если это бред пустой и ложный,
Чтобы меня утешить?.. Что тогда?..
Шли дни и месяцы, жизненный путь сына Мнесарха приближался к концу, но, следуя заветам своих бессмертных учителей, он продолжал напряженно доискиваться ответа на самый главный вопрос, мучивший его всю жизнь: в чем смысл человеческой жизни и в чем состоит счастье? Дела отечества становились для него все более чужими и далекими, его все меньше интересовали перипетии афинской политики. Для старого воина и поэта это все уже было в прошлом: битвы, победы, поражения… Здесь, в Македонии, среди великолепной, почти первозданной природы, в окружении людей, казавшихся варварами по сравнению с его соотечественниками, но более сильных, цельных и нравственно здоровых, Еврипид неизбежно был должен увидеть мир несколько иначе, открыть для себя какие-то новые его грани, а если и не новые, то казавшиеся ранее несущественными. Всегда до бесконечности усложнявший свою собственную жизнь, искавший счастья то в глубинах познания и философских абстракциях, то во взлетах поэтического вдохновения, он просмотрел немало простых человеческих радостей и вынужден был теперь это признать. Он, всегда стремившийся изменить к лучшему этот жестокий и непонятный мир, сделать людей более человечными, возвышенными и справедливыми, теперь вынужден был признать, что или это оказалось ему не под силу, или же это вообще невозможно. Жизнь подходила к концу, а мир оставался все той же огромной загадкой, как и во времена его полной надежд молодости, и, одинокий, одолеваемый старческой слабостью, вдали от родных Афин, «философ сцены» увидел, возможно, по-новому непреходящую мудрость Солона, считавшего, что истинное и единственно возможное для человека счастье — это живые, здоровые, устроенные дети и достойная кончина на родине…
Именно здесь, в Македонии, среди глухих лесистых гор, где в урочную пору местные менады еще справляли свои дикие, оргаистические празднества в честь великого Вакха, при воспоминании о запустевшей Аттике, становился особенно понятным древний миф об Антее, который был силен до тех пор, пока соприкасался с матерью-землей. Духовно сформировавшийся в те времена, когда все расширялся процесс «отвращения от земли» жителей Аттики, начатый Фемистоклом, и считавший долгие годы, что именно город, его божественные Афины, светоч искусств и образованности, призван определять развитие общества, постепенно просвещая деревню с ее косностью и примитивными суевериями, Еврипид не мог не признать к концу своих дней, что все обернулось совсем не так, как ожидалось, как думалось. Сотни разоренных людей в тесных стенах города не стали ни более просвещенными, ни более счастливыми: напротив, оторванные от матери-природы, от освященного вековыми традициями труда, от обычаев дедов и прадедов, они постепенно деградировали физически и нравственно, превратившись в неимущих и наглых паразитов, которых уже было не в состоянии содержать обедневшее государство. Оказалось, что своим блеском, силой и процветанием Афины были обязаны в значительной степени тому, что вокруг города из года в год трудились на своих полях, огородах и виноградниках свободные земледельцы — люди, хранящие животворную связь с кормилицей-землей, здоровые корни могучего дерева, на котором в урочную пору распускались прекраснейшие цветы…
Читать дальше