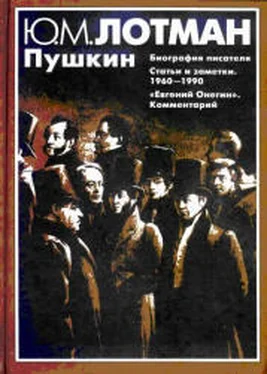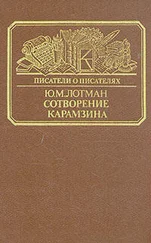Пушкин сознавал, что такое положение накладывает на него особую ответственность, и готовился к новой роли — организатора литературного движения.
Декабристы оказали сильное влияние на развитие русской журналистики, однако ни один из существовавших в ту пору журналов, по мнению Пушкина, не находился во главе литературы. Состояние литературной критики его также не удовлетворяло. Значительно выше по составу участников и степени литературной нацеленности, чем все журналы, был ежегодный альманах Рылеева и А. Бестужева «Полярная звезда». Он начал выходить с 1823 г. и объединил наиболее значительные литературные силы той поры. Однако в 1824–1825 гг. появляются симптомы расхождений между все более укреплявшейся на путях декабристской гражданственности группой Рылеева — Бестужева, с одной стороны, и умеренно прогрессивными поэтами — Дельвигом, Баратынским и др. Организация Дельвигом альманаха «Северные цветы», соперничавшего с «Полярной звездой», способствовала обострению отношений. Оба альманаха стремились заручиться участием Пушкина.
В этом, как и в ряде других случаев, Пушкин вел себя обдуманно и осторожно, сознательно не связывая себя ни с одной из литературных группировок и партий. Одновременно он весьма твердо проводил свою программу, которая, в основном, сводилась к следующему: альманахи — маленькие ежегодные книжечки — не могли по самой своей природе быть оперативными и направляющими литературу изданиями. Для этого нужен был журнал. И Пушкин, опережая развитие литературы, начал пропагандировать идею создания толстого литературного журнала. Руководство журналом он явно хотел сосредоточить в своих руках, но понимал, что такое издание должно объединить всех честных и талантливых писателей России (именно объединение было важным пунктом его программы). Журнал должен говорить не от лица какой-либо группы, а быть авторитетным законодателем литературных мнений. В нем особое место отводилось бы критике, и Пушкин начал осторожные переговоры с двумя своими приятелями — ведущими критиками двух враждующих литературных группировок: Вяземским и Катениным, подготавливая их объединение в одном журнале. Литературный разгром, последовавший за 14 декабря 1825 г., сорвал эти планы.
Изолированный в псковской глуши, Пушкин был связан с литературной жизнью лишь тонкой ниточкой писем, которые читались бдительными чиновниками сыска, терялись на почте, у приятелей, через которых посыпались. Однако главное литературное дело он совершал дома, за своим письменным столом. В Михайловском Пушкин много писал и много читал, много и чутко прислушивался к народной речи и народной поэзии. В письмах он не переставал подчеркивать, что ленится, много ездит верхом, о работе писал скупо, но непрерывно прося все новых и новых книг. На самом деле он жил в атмосфере почти непрерывного творческого напряжения, писал и учился. За это время им было написано следующее: закончены «Цыганы», написан «Борис Годунов», завершена третья и написаны четвертая — шестая главы «Евгения Онегина», «Граф Нулин», несколько десятков стихотворений, среди них такие значительные, как «К морю» (закончено в Михайловском), «Подражания Корану», «Жених», «19 октября», «Андрей Шенье» и многие другие. Пушкин работал над несколькими принципиальными литературно-критическими статьями, посвященными вопросам народности литературного языка. Большим трудом, отнявшим много усилий, стала работа поэта над своими записками. Труд этот он уничтожил после 14 декабря 1825 г. Если к этому добавить работу над подготовкой сборника стихотворений 1826 г. и над не дошедшим до нас рукописным сборником эпиграмм, станет очевидно, сколь напряженной была литературная жизнь Пушкина в этот период и как интенсивен должен был быть его каждодневный труд. К этому следует прибавить массу прочтенных в это время книг: из Лицея Пушкин вынес поверхностное и несистематическое образование — в 1830-е гг. он поражал современников глубокими и исключительно обширными познаниями в мировой литературе, истории, политической жизни, публицистике. Значительную часть этих сведений он приобрел в Михайловском. Наконец, надо учесть серьезный, на уровне науки тех лет, интерес к фольклору, который поэт удовлетворял как знакомством с печатной литературой, так и записью устных источников. Брату он писал: «…вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» (XIII, 121). Арина Родионовна была, видимо, талантливой сказительницей с выразительной манерой исполнения и разнообразным репертуаром.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу