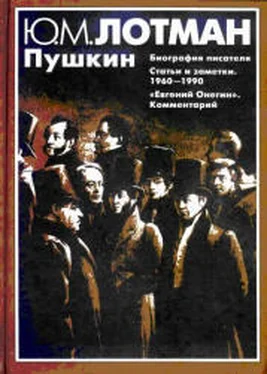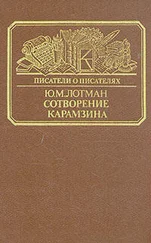Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. С. 267, 269, 274.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 469.
П А. Вяземский с некоторым недоумением сообщал жене 23 января 1828 г.: «Он, шут, и меня туда ввернул
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то В… подсел
И душу ей занять успел».
(Лит наследство Т 58. С. 72)
Вяземский П А Избр. стихотворения. М., Л., 1935. С. 149. В первом (отдельном) издании первой главы в 1825 г. эпиграф отсутствовал
Северная пчела 1826. № 132
См.: Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 96.
Якобсон Р. О. Указ. соч. С. 98.
Скороходова О. И. Как я воспринимаю и представляю окружающий мир. М., 1954. С. 420.
Так, в момент введения в кинематографе резко приближенных планов зритель воспринимал это как анатомическое рассечение тела актера, а не как элемент художественного языка (ср.: Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968. С. 50–51; Монтегю А. Мир фильма. Л., 1969. С. 76), что ограничивало возможности режиссеров. В настоящее время самые резкие смены планов не вызывают у зрителей никаких трудностей и не нарушают единства восприятия. То, что Л. Н. Толстой резко увеличивает повторы деталей внешности своих героев, возможно, связано с начальной позицией его романов, стоящих у истоков традиции многопланового и многофигурного повествования, в котором рост сюжетных линий и их переплетений, резкое увеличение числа персонажей требовали дополнительных средств для «склеивания» отдельных персонажей.
Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность, искусство, археология, ежегодник 1974. М., 1975. С 132.
См. в наст. изд. статью «Посвящение «Полтавы» (Адресат, текст, функция)».
Ср.: «Взор показался мне чудно нежен» (Лермонтов М. Ю. Соч. Т. 6. С. 257); «Взор его очей / Был чудно нежен…» (VI, 112). Ср. также цитату из посвящения Плетневу в «Княжне Мери», эпиграф из «Онегина» в «Княгине Лиговской» и пр., см.: Лермонтов М. Ю. Соч. Т. 6. С. 665 (примеч. Б. М. Эйхенбаума). Он же заметил, что в рукописи «Княгини Лиговской» Лермонтов ошибочно назвал Печорина Евгением. См.: Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961. С. 233.Целые сцены «Героя нашего времени» могут быть поняты лишь как реплики на «Онегина». Таков, например, эпизод ревности Грушницкого к Печорину на балу, подготовляющий, также параллельную к «Онегину», сцену дуэли:
— Я этого не ожидал от тебя, — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку.
— Чего?
— Ты с нею танцуешь мазурку? — спросил он торжественным голосом. — Она мне призналась…
— Ну, так что ж? А разве это секрет?
— Разумеется, я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки… Уж я отомщу!
(Лермонтов М. Ю. Соч. Т. 6. С. 303) (ср.: «кокетка, ветреный ребенок» (VI, 116).
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 265.
См. главу «Проблема «простого человека» в творчестве Лермонтова» в кн. Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. М.; Л., 1964. С. 123–133.
Можно предположить, что на жизненную судьбу В. С. Печорина определенным образом повлияло, кроме существенных факторов, и созвучие его фамилии (которую он, вероятно, произносил как Печорин) с лермонтовским героем. Однако, поставленный реальными жизненными условиями в иную ситуацию, он сделался уже не кавказским офицером, а профессором и «русским скитальцем» — персонажем, тяготеющим к миру Достоевского, а не Лермонтова.
Трансформированная онегинская ситуация присутствует не только в «Рудине», «Дворянском гнезде» и «Накануне», но и в «Отцах и детях», что явно обнаруживается в почти пародийном параллелизме ряда эпизодов. Ср.:
«Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.
— Кто именно, позвольте узнать?
— Да Петр.
— Какой Петр?
— Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях комильфо»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу