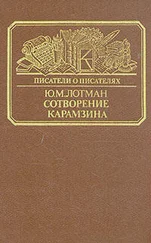Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.
<���…>
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Им резко Лун<���ин> предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал сво<���и> Ноэли Пу<���шкин>,
Мела<���нхолический> Як<���ушкин>,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал (VI, 523–524).
Стихи эти длительное время казались плодом поэтического вымысла: участие Пушкина в заседаниях такого рода представлялось невозможным. Однако в 1952 г. М. В. Нечкина опубликована показания на следствии декабриста И. Н. Горсткина, который сообщил (надо, конечно, учесть вполне понятное в тактическом отношении стремление Горсткина принизить значение описываемых встреч): «Стали собираться сначала охотно, потом с трудом соберется человек десять, я был раза два-три у к<���нязя> Ильи Долгорукого, который был, кажется, один из главных в то время. У него Пушкин читывал свои стихи, все восхищались остротой, рассказывали всякий вздор, читали, иные шептали, и все тут; общего разговора никогда нигде не бывало <���…> бывал я на вечерах у Никиты Муравьева, тут встречал частенько лица, отнюдь не принадлежавшие обществу» [39] Лит. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 158–159.
.
Если добавить, что названные в строфе Лунин и Якушкин — видные деятели декабристского движения — также были в эти годы знакомцами Пушкина (с Луниным он познакомился 19 ноября 1818 г. во время проводов уезжавшего в Италию Батюшкова и так близко сошелся, что в 1820 г. перед отъездом Лунина отрезал у него на память прядь волос; с Якушкиным Пушкина познакомил Чаадаев), картина декабристских связей Пушкина делается достаточно ясной. Однако она будет не совсем закончена, если мы не обратимся к еще одной стороне вопроса.
Мы уже говорили о том, что нравственный идеал Союза Благоденствия был окрашен в тона героического аскетизма. Истинный гражданин мыслился как суровый герой, отказавшийся ради общего блага от счастья, веселья, дружеских пиров. Проникнутый чувством любви к родине, он не растрачивает своих душевных сил на любовные увлечения. Не только изящно-эротическая поэзия, но и «неземные» любовные элегии Жуковского вызывают у него осуждение: они расслабляют душу гражданина и бесполезны для дела Свободы. Рылеев писал:
Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет. [40] Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., [1934]. С. 104.
В. Ф. Раевский позже, в Кишиневе, уже сидя в Тираспольской крепости, призывал Пушкина:
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь… [41] Раевский В. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л,1934. С. 104
Этика героического самоотречения, противопоставлявшая гражданина поэту, героя — любовнику и Свободу — Счастью, была свойственна широкому кругу свободолюбцев — от Робеспьера до Шиллера. Однако были и другие этические представления: Просвещение XVIII в. в борьбе с христианским аскетизмом создало иную концепцию Свободы. Свобода не противопоставлялась Счастью, а совпадала с ним. Истинно свободный человек — это человек кипящих страстей, раскрепощенных внутренних сил, имеющий дерзость желать и добиваться желанного, поэт и любовник. Свобода — это жизнь, не умещающаяся ни в какие рамки, бьющая через край, а самоограничение — разновидность духовного рабства. Свободное общество не может быть построено на основе аскетизма, самоотречения отдельной личности. Напротив, именно оно обеспечит личности неслыханную полноту и расцвет.
Пушкин был исключительно глубоко и органично связан с культурой Просвещения XVIII в. В этом отношении из русских писателей его столетия с ним можно сопоставить лишь Герцена. В органическом пушкинском жизнелюбии невозможно отделить черты личного темперамента от теоретической позиции. Показательно, что почти одновременно с одой «Вольность», ясно выражавшей концепцию героического аскетизма, Пушкин написал мадригал Голицыной «Краев чужих неопытный любитель…», в котором даны как равноценные два высоких человеческих идеала:
…гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной
и
…женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой (II, 43)
Печать Свободы почиет на обоих.
Такой взгляд накладывал отпечаток на личное, бытовое поведение поэта. Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, а сознательной и программной жизненной установкой. И если Любовь была как бы знаком этого непрерывного жизненного горения, то Шалость и Лень становились условными обозначениями неподчинения мертвенной дисциплине государственного бюрократизма. Чинному порядку делового Петербурга они противостояли как протест против условных норм приличия и как отказ принимать всерьез весь мир государственных ценностей. Однако одновременно они противостояли и серьезности гражданского пафоса декабристской этики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу