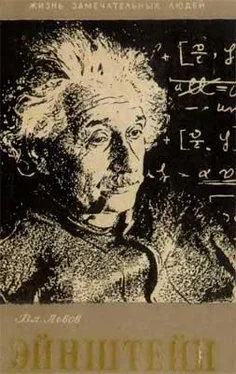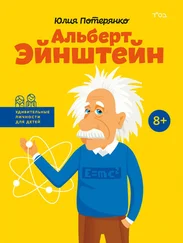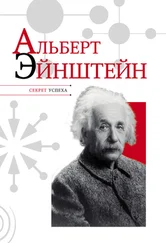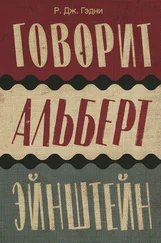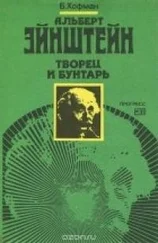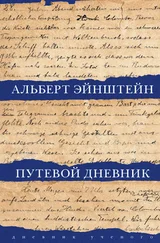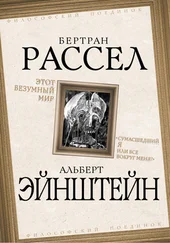Но стоило ли вообще останавливаться на этом пункте? В течение столетий, а может быть тысячелетий, люди, плывя по течению быстрой реки, не сомневались в том, что к скорости, с которой скользит их ладья, прибавляется скорость течения воды в реке!
Эйнштейн усомнился в этом.
Закон сложения скоростей классической механики вытекает, бесспорно, из основы основ классической механики, а сама эта механика проверена всем опытом человеческой практики. Это так, но дело в том, что практика, о которой идет речь, касается лишь материальных объектов («площадок»), движущихся с небольшими по сравнению с быстротой света скоростями. Всюду же там, где замешана скорость света или где есть тела, мчащиеся с быстротой, близкой к этой скорости, законы механики Ньютона не должны ли уступить место другим законам? Что дело обстоит именно так, явствовало со всею наглядностью хотя бы из факта независимости света от движения источника. Звезда, как мы знаем, может приближаться или удаляться от земного шара, но скорость ее перемещения не прибавляется от этого и не вычитается из скорости света. Или в опыте Физо: скорость света относительно трубы не равна скорости света относительно воды плюс скорость воды, но почти на 60 процентов меньше!
Факты и логика вещей подводили, таким образом, вплотную к идее отказа от абсолютной незыблемости законов ньютоновской механики, к необходимости поисков новых законов.
И нельзя сказать, чтобы идея эта оставалась совсем уже посторонней для физиков конца XIX и самых первых годов XX века. Нет, как и все великие идеи, она носилась в воздухе. К ней шли ощупью с разных сторон и с разной степенью успеха. Еще в 1895 году Гендрик Лоренц, ломая голову над объяснением опыта Майкельсона, сделал ряд блестяще-остроумных математических расчетов, которые могли бы лечь в основу новой механики (и действительно, десятилетие спустя были положены в ее основу). Но сам Лоренц, к сожалению, думал не столько о пересоздании основ механики, сколько о приспособлении своих расчетов к идее абсолютно неподвижного эфира.
Лоренц намеревался объяснить отрицательный результат опыта Майкельсона (и всех вообще попыток подметить абсолютное движение Земли) с помощью идеи, которая вошла в историю науки под названием «гипотезы сокращения» Лоренца. Так как еще раньше — в 1891 году — ирландский физик Джордж Фицджеральд сделал точно такое же предположение (о чем Лоренц не знал), историки говорят также о «гипотезе Лоренца — Фицджеральда».
Отсутствие какого-либо действия «эфирного ветра» в приборе Майкельсона объясняется, согласно Лоренцу и Фицджеральду, «очень просто». Все предметы при движении сквозь эфир слегка укорачиваются, как бы сплющиваются «под давлением» эфира. Сокращаются размеры плиты, на которой смонтированы приборы в опыте Майкельсона. Укорачивается металлическая штанга, соединяющая зеркало с полупрозрачным стеклом. Сплющивается, наконец, сам земной шар (и мы сами, движущиеся вместе с ним сквозь эфир!) — и притом в точности на такую долю, чтобы скомпенсировать действие «эфирного ветра». Насколько удлиняется путь светового луча, сносимого «ветром», настолько-де укорачивается расстояние между стеклом и зеркалом. Наряду с этим сокращением длины (происходящим вдоль оси движения тел) Лоренц — и наряду с ним Джозеф Лармор в Дублине — предложили учитывать также и своеобразную разницу во времени между различными точками эфира. Упомянутая разница вводится опять-таки только для того, чтобы свести на нет действие «эфирного ветра». Подхваченный «ветрам» световой луч в майкельсоновской установке должен был, как мы помним, запаздывать при движении внутри прибора. Фактически же никакого запаздывания не наблюдается. Значит, все дело в том, что стрелки часов в разных точках эфира (и прибора) показывают разное время. Разница компенсирует запоздание. Гипотезы, о которых идет речь, бесспорно, не были лишены изобретательности и остроумия. Но они покоились, увы, на методологически порочной (и отвергаемой всем историческим опытом физики) идее абсолютно неподвижного эфира!
Проблема эфира и движения приковывала к себе внимание и Анри Пуанкаре. Осенью 1904 года в докладе, прочитанном на конференции ученых в Сан-Луи (США), он попробовал, опираясь на вычисления Лоренца, наметить контуры теории, которая могла бы формально согласовать результаты всех известных экспериментов — от аберрации Брадлея до опыта Майкельсона — Морлея. Летом следующего, 1905 года в статье («О динамике электрона»), напечатанной в итальянском научном журнале, Пуанкаре придал системе уравнений, написанных Лоренцом, более стройный вид. Но никакой физической теории, проникающей в объективную реальность и анализирующей свойства этой реальности, у Пуанкаре не получилось. Да он и не искал такой теории….
Читать дальше