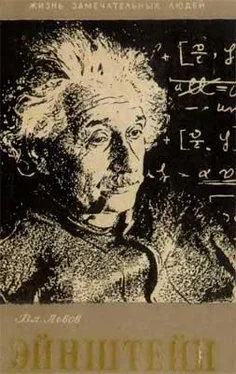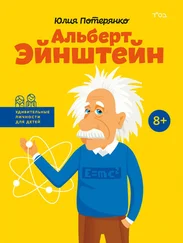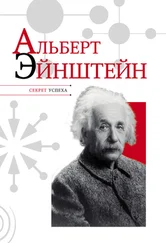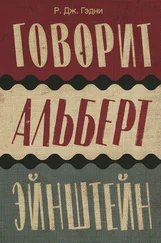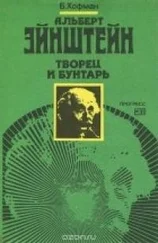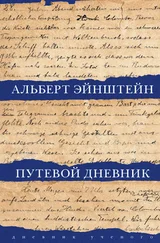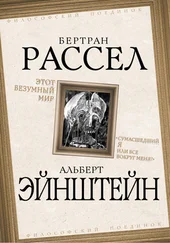Климент Тимирязев в Москве отметил кратко: «Трескучие фразы! Свобода от чего? От строго научно доказанного факта… И как неудачно это глумление в устах у человека, выбывшего из ряда физиков, чтобы стать адептом учения его преосвященства епископа Клойнского!» [13] [13] Имеется в виду Джордж Беркли (занимавший должность епископа англиканской церкви в графстве Клойн). Прямая связь «эмпириокритической» философии Маха и реакционного учения Беркли была вскрыта Лениным. Приведенное замечание К. А. Тимирязева (из статьи, датируемой 1909 годом) иллюстрирует глубокую идейную близость Климента Аркадьевича к марксистско-ленинскому философскому мировоззрению еще в дореволюционные годы. (Прим автора.)
* * *
Это происходило примерно в те дни, когда Альберт Эйнштейн рассеянно катал детскую колясочку по узким улицам Берна.
Глава четвертая. Броуновское движение
Известие об этих делах принес ему Адлер — тот самый Фриц Адлер, которого надлежало теперь именовать герром приват-доцентом Фридрихом Адлером. Окончив учение, он тотчас же и без особых хлопот уселся в приват-доцентское кресло Цюрихского университета, который так негостеприимно захлопнул двери перед Эйнштейном. Почему? Злые языки говорили, что успехи австрийской социал-демократии на последних выборах сделали старого Виктора Адлера важной персоной для академических канцелярий Вены. Перст судьбы воплотился далее в сгорбленной, всклокоченной и совершенно глухой фигуре надворного советника доктора Маха, чьим усерднейшим учеником числился ректор в Цюрихе.
Итак, приват-доцент герр Фридрих Адлер рвался в бой, имея целью «дополнить Маркса махизмом…» Разговор коснулся сначала докторской диссертации Адлера, «посвященной теплоемкости хрома, и Эйнштейн поинтересовался, какое именно допущение о строении вещества положено диссертантом в основу исследования? «Никакое! — самодовольно ответил тот. — Мы не пользуемся гипотезами. Мы ограничиваемся чистым опытом!» Беседа перешла затем на атомы, и Эйнштейн заметил, что «число Авогадро» (число молекул в куске вещества, весящем столько граммов, сколько единиц в молекулярном весе) приобретает все более реальные очертания…
Адлер скептически и брезгливо поджал губы.
— Метафизический вздор! Сказки Демокрита! После великого Маха («Der grosse Mach!» — Адлер даже благоговейно прикрыл глаза, произнося это имя), после Маха говорить о реальности, извините меня, просто глупо…
— Но теория Больцманна, из которой прямо получается…
— Вульгарные метафизические бредни! Оствальд доказал, как дважды два, что можно переписать уравнения Больцманна, устранив из них молекулярные массы и оставив только непосредственно наблюдаемые энергии.
— Пусть так. Ну, а если удастся установить реальную связь между неощущаемыми молекулярными движениями и наблюдаемыми феноменами?..
— Знаю. Чушь! Никакой связи! Время физики моделей кончилось, герр коллега, зарубите это себе на носу. Наступил век физики феноменов!
Эйнштейн внимательно посмотрел на собеседника.
— Возможно. Но вся штука в том, что я установил эту связь…
* * *
В течение 1902–1904 годов он закончил и послал в берлинские «Анналы физики» четыре статьи, посвященные, как и напечатанный ранее мемуар о капиллярности, вопросам молекулярно-кинетической теории вещества.
Эти статьи были его ответом на обскурантскую свистопляску, поднятую махизмом вокруг атома. Все это вызывало у него чувство протеста. «Предубеждение этих ученых (Оствальда и Маха. — В. Л.) против атомной теории можно, несомненно, отнести за счет их позитивистской философской установки», — вспоминал он в автобиографии. «Вот пример того, как философские предубеждения мешают правильной интерпретации фактов!» Свой долг ученого он видел в теоретическом и экспериментальном обосновании реальности атомов. «Главной моей целью было найти такие факты, которые возможно надежнее устанавливали бы существование атомов определенной конечной величины…»
И он нашел эти факты.
В первых трех исследованиях — «Анналы» напечатали их без промедления — развивались основные идеи и теоремы статистической механики. Из нее выводились положения термодинамики, то есть был проделан труд, уже выполненный несколько ранее Больцманном и Гиббсом. Как не без досады должен был он вскоре признать, эти работы Больцманна и Гиббса попросту не попали в круг его, эйнштейновского, чтения. Вот до чего довели безалаберность и манкирование лекциями в политехникуме! Но он мог по крайней мере, утешать себя тем, что проделал самостоятельно путь мысли, пройденный двумя гигантами физической теории. Замечательно и другое. Замечательно то, что редакция «Анналов», возглавлявшаяся тогда Паулем Друде, при близком участии Планка и других физиков-материалистов, без колебаний приняла решение печатать статьи, оставив в стороне вопрос о приоритете… Причина в том, что тема статей оставалась на повестке дня физической теории. Статьи Эйнштейна били в нужную точку, они сражались на переднем крае борьбы между материализмом и идеализмом в тогдашней физике!
Читать дальше