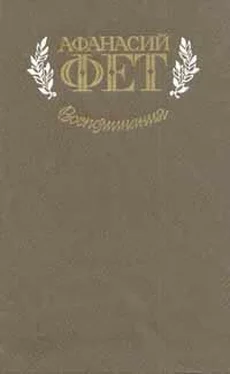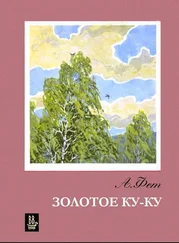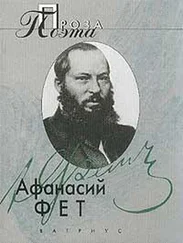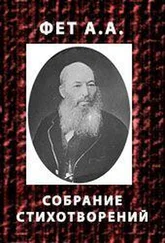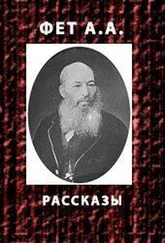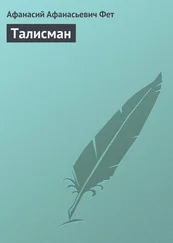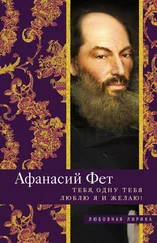«Боже, — подумал я, — какой пример для наших специалистов!»
Добродушный, трудолюбивый, одноцентренный Максим Германович оказался идеалом специалиста. При 2-х месячном ежедневном совместном труде поневоле пришлось близко ознакомиться с этим, у нас почти не существующим типом.
Не встречая в мире ничего, видимо, выступающего из вековечных границ причинности, он считал всякую мысль о невещественном для себя неподсудной и бесплодной, и потому прямо говорил: «Я этого совершенно не знаю и навсегда оставил об этом думать». Будучи своею специальностью указан на мастерскую форму древних писателей, у которых она, как у черепокожных, выставляет свой костяк наружу как основную и существеннейшую свою часть, — Киндлер тонко понимал виртуозный выбор древними отдельных выражений. Но о том, чего не встречается в древних поэтах, он тоже не имел никакого понятия. Того тайного смятения, того неопределенного подъема и стремления к неведомому, которым полны корифеи христианского мира, начиная с Шекспира и Байрона и самого Гете и кончая Гейне и Лермонтовым, — у древних не существовало, и надо быть на этот счет весьма чувствительным, чтобы почувствовать зародыш этого веяния (романтизма) у Проперция. Нельзя не заметить, что по отношению к нашему русскому умственному вертограду так и хочется применить замечание, что самый сладкий плод с червоточиной. Оглянитесь на знакомых русских служителей Аполлона, и вы убедитесь в справедливости моего замечания; но у Максима Германовича не было никакой червоточины; для него Прусское государство, т. е. Германская империя, была верхом совершенства: она вся состоит из превосходно обученных и вооруженных солдат и переплетена подземными телеграфными линиями, дающими при железных дорогах возможность задавить первого врага массой вооруженной защиты. Там люди изучают древних ради их образцового совершенства, а не ради чинов. Словом, с этих сторон Максим Германович был неуязвим, и я старался избегать с ним разговоров о несравненном величии Германской империи.
Зато наши занятия с самого дня приезда Киндлера установились наилучшим образом. Комнату он занял наверху в одном коридоре, напротив входа в мою половину. После утреннего кофе мы расходились по своим комнатам знакомиться с данной сатирой Горация, причем он старался в подробностях приготовиться и к следующей. Часам к 10-ти он приходил ко мне с Горацием в руке, а я начинал сдавать ему экзамен по сатире, которую собирался переводить. Невзирая на сильный немецкий акцент, Киндлер ознакомился с русским языком до полного понимания всех его оттенков. Конечно, сдавая свой экзамен, я старался о возможной близости моего перевода к подлиннику и, не находя в данную минуту русского слова, вставлял немецкое. Выслушав мой перевод, Киндлер снова уходил к себе и работал до 12-ти часов, т. е. до завтрака. После часовой прогулки он снова уходил работать до 4 часов, ревностно готовя следующую сатиру. К 4 часам я обыкновенно поджидал его прихода, чтобы прочесть ему те 30, 40 и даже 50 стихов, которые успел перевести за утро. Вот тут-то начиналась беда. Максим Германович не признавал по отношению к нашему брату никакой поэтической вольности. Licentia poetica [249]существует для древних писателей; так она уж там в учебниках и прозывается, а про русских стихотворцев там ничего не сказано. А потому в переводе надо искать не приблизительного, а самого несомненного русского выражения. Иногда отыскивание этих точных выражений доходило до зеленых кругов в глазах. Однажды, в минуту невыносимого мучения, я не выдержал и сказал:
— Э, Максим Германович! право, это все равно!
Киндлер замолчал, но зато весь обед дулся и отворачивался от меня, как от unartigen Buben [250]. Когда перед вечерним чаем он снова зашел ко мне, я просил его извинить меня за необдуманные слова. «То-то, — отвечал Киндлер, — я изумился: как может быть вам все равно то, что выходит из-под ваших рук».
Тем не менее добросовестная критика Киндлера в отдельных случаях переступала надлежащую границу. Мои друзья знают, до какой степени я дорожу всеми указаниями на мои промахи и несовершенства; но на известной степени я остаюсь при своем мнении. Вот на этой-то точке Киндлер иногда вступал со мною в спор и, что замечательно, никогда ни разу по поводу латинских выражений, а по поводу русских. Изучивши литературную речь, он незнаком был с народною и вдруг при каком-либо обороте утверждал, что так нельзя сказать по-русски. Как бы то ни было, мы тщательно пересмотрели с Киндлером всего Горация и расстались наилучшими друзьями [251].
Читать дальше