* * *
Распад большой семьи с ее патерналистским порядком, переселение сыновей и дочерей, служанок и батраков в города и промышленные районы, устранение чересполосицы, моторы, трактора, электрификация, канализация, прокладка трасс, переход к новым видам обработки земли, удобрения, консервирование и питание — одно влечет за собой другое и в свою очередь отражается на образовании и воспитании. Лошадь должна отступить, а с ней — всадник, рыцарь ушел задолго до него. Солдат становится Рабочим, как я впервые увидел на Сомме и во Фландрии и потом безрадостно осмыслил. Дорога ведет от сословной армии через народную армию к анонимным комбинатам тотальной мобилизации [152].
В школах личность, как преподавателя, так и ученика, тоже должна отойти на задний план; речь идет уже не о встрече и формировании характеров, а о точной передаче материала знаний. Это во все возрастающем объеме может обеспечиваться механически.
В рамках конфуцианской педагогики преподаватель является образцом, который представляется сначала в бытии, а потом и в знании, и с которого нужно брать пример. Он — не только знающий, но и мудрец; на этом основывается уважение к нему.
Если знание станет преобладать над мудростью, результат может оказаться двусмысленным, более того, даже опасным, ведь запросы уже не основываются на уважении. Этос и эрос обучения исчезают; оно превращается в функцию среди прочих. Китайская мудрость давно это предвидела.
* * *
Народы Дальнего Востока сто лет назад начали интенсивно участвовать в судьбе Запада. В каком объеме они стали бы претендовать на это, невозможно было предвидеть в тот момент, когда император Мейдзи решился на свои реформы.
Процесс продолжится с нарастающей интенсивностью. Европеец, посещающий сегодня Китай, Японию или даже маленькие восточные государства, попадает на очную ставку с собственной судьбой. Многое, что образовалось и развилось у него в потоке истории, там вдалеке повторяется как новый речной порог. Блеск же картин, которые с детства представлялись иностранцу словно бы нарисованными на шелке миниатюрами, напротив, тускнеет. Он видит их либо поблекшими, либо искусственно выставленными ему для обозрения.
Это что касается блеска и нищеты современного путешественника. Он пролетает мир как сиамский близнец: как homo faber [153]и как homo ludens [154], как намеренно безысторичный и как мусический, жаждущий образов человек, то гордясь своим титанизмом, то печалясь о разрушении, которое за ним следует. Чем сильнее, чем мощнее вырастают у него крылья, тем реже он находит то, что угодно для его души.
Чем больше он — современник, тем меньше он чувствует утрату; электростанция в Гуанце, буровые вышки в Сахаре, метеостанция на Южном полюсе, скоростная езда на линии Токкайдо подтверждают ему собственное жизнеощущение. Оно раздваивается, куда б он ни повернул, — сначала ему с гордостью предъявят, на что способны их техника и наука, и только потом — оставшееся от предков: могилы, храмовые города, леса и сады, маски и народные танцы.
Но никто, конечно, не современник настолько, чтобы не почувствовать какого-то ограбления, учиняемого планированием как в нетронутом, так и в совершенном. Он озадачен; мир больше не отвечает из своей глубины.
В этом отношении путешествие чем-то похоже на танталовы муки. Мы слышим эхо отзвучавших мелодий и следуем за отражениями по местам, где невозможно утолить жажду. Это не чистые иллюзии; даже фата-моргана отражает удаленную действительность. Мы ищем их то в будущем, то в минувшем.
Посреди сильного истощения культур, стихий, даже универсума мы видим то, что когда-то было возможно в образах и образовании. Это дает нам мерила, даже для Здесь и Сейчас. Иногда, в каком-нибудь бору, мы можем с изумлением увидеть какой-нибудь древний дуб, ель или ясень — могучее перестойное дерево; оно уже пережило несколько сплошных вырубок и нескольких лесничих. Оно тоже, конечно, падет, но пока еще может дарить нам тень в полуденный час — и больше чем тень: уверенность.
ГАОСЮН, 13 АВГУСТА 1965 ГОДА
В первой половине дня мы шли вдоль побережья Формозы. Португальцы назвали этот остров «Чудесным», а китайцы «Побережьем террас»: Тайвань. Поскольку мы иногда подходили к нему очень близко, я увидел, что оба названия даны ему с полным основанием.
В полдень высадка в Гаосюне. Здесь пахнет войной — серые корабли в гавани, орудия на склонах, эскадрильи истребителей в воздухе. Мы в Национальном Китае — дорогостоящей американской фикции. Я не могу судить о ее стратегической ценности. Она, вероятно, значительна; миллионы беженцев тоже нельзя бросить на произвол судьбы. Такой форпост с равным успехом может оказаться как оковами, так и ключом; это зависит от собственной силы, которая должна нарастать по мере того, как континентальный Китай становится все более грозным и недоступным. Тут уже полруки может оказаться в ловушке.
Читать дальше
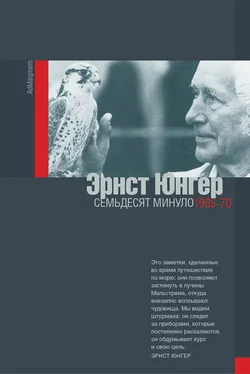









![Эрнст Юнгер - Стеклянные пчелы [litres]](/books/410842/ernst-yunger-steklyannye-pchely-litres-thumb.webp)

