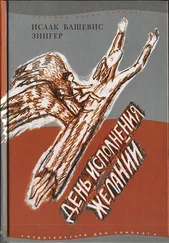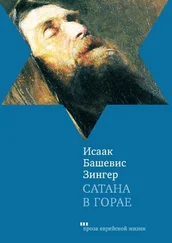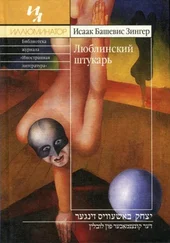1 ...5 6 7 9 10 11 ...188 Старшие — Исраэль-Иешуа и Эстер-Гинда — выросли, как мать, рационалистами, и в итоге отошли от религии и стали убежденными материалистами.
Младший, Мойше, полностью оказался под влиянием отца и пошел по его стопам, сделавшись ортодоксальным раввином. А вот средний, Иче-Герц, будучи равно близок и к отцу, и к матери, так и застрял «на полпути», достаточно далеко оторвавшись от иудаизма в своем внешнем образе жизни, но внутренне оставшись глубоко религиозным человеком.
Дело даже не в примитивности, схематичности такого объяснения — дело в том, что оно неверно по сути!
Ярлык «рационалистки до мозга костей» своей матери приклеил опять-таки сам Башевис-Зингер, причем сделал это от имени отца во входящей в книгу «В суде моего отца» новелле «Почему кричали гуси».
В этой новелле, напомню, рассказывается о том, как мать будущего писателя отказалась поверить в то, что мертвые гуси кричат потому, что в них вселились души грешников. Вместо того чтобы поддаться всеобщему священному трепету, она просто извлекла из их тушек дыхательное горло, издававшее при нажатии эти странные звуки, и тогда Пинхас-Менахем-Мендель сказал среднему сыну: «Твоя мать вся в твоего деда, билгорайского раввина. Он великий ученый, но рационалист до мозга костей. Меня предупреждали перед помолвкой…»
Но в этом и заключается весь Башевис-Зингер.
Впитав с детства характерный талмудический стиль мышления, он во многих своих произведениях нередко выдвигает изначально некий вполне убедительно звучащий тезис, но только для того, чтобы затем всей логикой повествования выдвинуть не менее, а возможно, и куда более убедительный антитезис. Правда, в отличие от Талмуда, Зингер далеко не всегда приводит антитезисы к синтезу, предоставляя проделать эту работу читателю, но суть метода та же.
В том же «Суде моего отца» Зингер рассказывает, какое огромное значение придавала его «рационалистка»-мать своим снам, как из одного из таких снов она поняла, что ее старший сын дезертировал из русской армии, а из другого — то, что ее отец в эту ночь скончался.
Таким образом, если Батшеба Зингер и была рационалисткой, то очень условно — разве что в сравнении с мужем. Что же касается «практического склада ума» матери Башевиса-Зингера, то чтобы понять, в чем он заключался, достаточно вспомнить, как она выбирала жениха — прагматичным такой выбор явно не назовешь.
Да и читая о том, как Пинхас-Менахем Зингер вершил суд по законам Торы; как умело он управлял еврейской общиной Крохмальной улицы; в каких сложнейших жизненных драмах ему приходилось разбираться, понимаешь, что он отнюдь не был ни рохлей, ни оторванным от жизни кабинетным ученым. Да, возможно, это знание жизни и человеческой природы пришло к нему с годами, но ведь пришло!
Словом, если даже Пинхас-Менахем и Батшеба Зингер и были в чем-то разными людьми, то в главном они однозначно сходились. И вот эта-то несомненная близость мироощущений и жизненных ценностей и помогла им в итоге стать, говоря языком еврейской мистики, той самой «истинной парой», какой они предстают со страниц всех автобиографических произведений писателя.
* * *
Впрочем, профессор Джанет Хадда в своей книге «Исаак Башевис-Зингер. Биография» утверждает, что атмосфера в семье Зингеров была весьма далека от той идиллии, которую рисует сам Башевис в своих книгах. По ее мнению, отношения между мягким и непрактичным Пинхасом-Менахемом и куда более жесткой и прагматичной Батшебой порой были весьма напряженными. В значительной степени, считает Хадда, прочность их брака основывалась на сексуальной, а не духовной гармонии между ними. Вывод о том, что родители Башевиса-Зингера были удовлетворены своей интимной жизнью, Хадда основывает на том благословении, которое Пинхас-Менахем дал дочери перед свадьбой: он пожелал Эстер-Гинде, чтобы та всегда была столь же желанной для мужа, как ее мать, и чтобы ее муж всегда желал ее так же, как ее отец.
Далее Дж. Хадда приходит к выводу, что Пинхас-Менахем и Батшеба были не очень хорошими родителями. Образованной, жизнелюбивой Батшебе было, по ее версии, крайне тяжело жить полной ограничений и запретов жизнью ультраортодоксальной еврейки. Поэтому она, дескать, часто пребывала в депрессии и мало уделяла внимания детям, что особенно остро чувствовала, прежде всего, дочь — Гинда-Эстер. Трещина в отношениях Батшебы со старшей дочерью с годами лишь возрастала, постепенно превращаясь в настоящую пропасть, которую ни одна из сторон так и не смогла перешагнуть и которая отчетливо прочитывается во многих книгах Эстер Крейтман.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
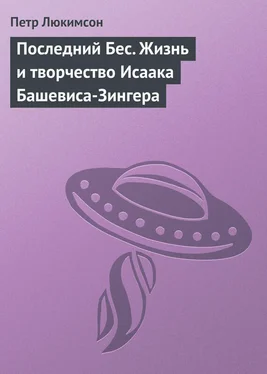
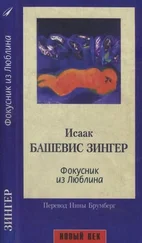
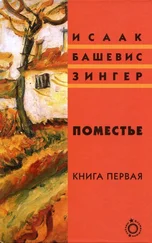
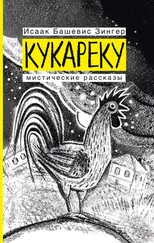
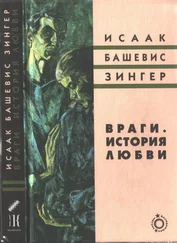
![Исаак Башевис-Зингер - Короткая пятница и другие рассказы[Сборник]](/books/148307/isaak-bashevis-thumb.webp)