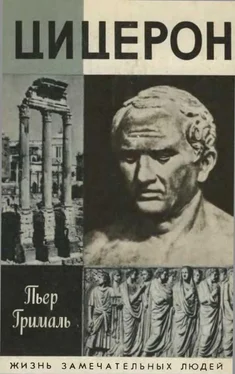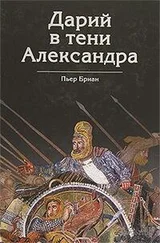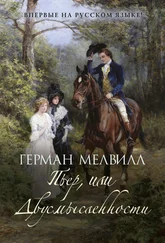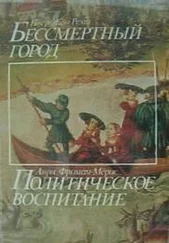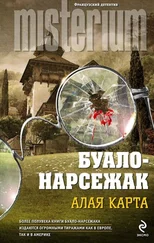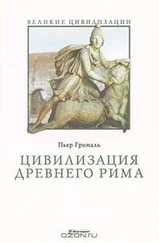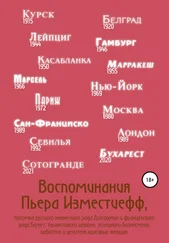На практике все эти условия, призванные облегчить наместнику выполнение его задач, складывались далеко не всегда и зависели от случая, приводившего или не приводившего в провинцию людей, здесь уже бывавших, от личных особенностей местных аристократов, по-разному смотревших на сотрудничество с римлянами. Можно ли было оставлять на волю случая все управление империей? В чем вообще был ее смысл, общий исходный принцип, ее оправдывавший? На чем она основывалась? Только ли на праве победителя? Но в этом случае достаточно было измениться соотношению сил, и вся правовая основа оказывалась недействительной. Подобные проблемы начали осознаваться в Риме примерно в середине II века до н. э., когда здесь впервые стали выступать философы, рассуждавшие о природе права и справедливости. Вряд ли знаменитая речь на эту тему, произнесенная Карнеадом в 155 году, вызвала у знатных римлян, его слушавших, муки совести, но она подтвердила и оживила давнее представление о том, что победитель обязан стать покровителем и защитником побежденного, что между ними возникают отношения, основанные на fides. Вместо принуждения вступали в силу обязательства юридического и морального порядка, однако на практике о них слишком часто забывали. С начала I века до н. э. потребность заново поставить и заново решить все вопросы, связанные с управлением империей, ощущалась все более настоятельно. Вопросы эти были отнюдь не только теоретическими. В самой Италии в 91 году до н. э. вспыхнуло грандиозное восстание союзных Риму городов, затянувшееся на целых два года, и когда мятежники утверждали, что Рим — прожорливая волчица, а римляне — просто скопище удачливых разбойников, то они, быть может, были не так уж не правы. Чтобы справиться с подобными обвинениями и со всем, что за ними стояло, нужна была новая концепция римской власти в провинциях, так называемая «романизация», и эту концепцию предстояло создать, обосновать теоретически и сделать приемлемой для покоренных городов, стран и народов. Это новое представление о романизации не могло основываться на воззрениях старой римской аристократии, которая в идеале, разумеется, сохраняла верность политическим, хозяйственным и нравственным традициям, некогда обеспечившим процветание Города, но в реальной жизни переживала все те деформации, о которых мы вкратце рассказали выше. Ощущалась настоятельная потребность в новом мышлении, способном создать новый образ imperium Romanum. Такова была задача, которую поставила перед римлянами их же история. Цицерону суждено было стать одним из первых, кто приступил к ее решению.
Решение это должно было учитывать в качестве исходного по крайней мере одно положение, обусловленное самим составом империи: романизация нового типа могла строиться лишь как синтез римских начал и греческой культуры, способной вобрать в себя также и всю духовную историю Востока. В основу такого синтеза должны были, вполне очевидно, лечь четыре доблести, признанные философами в качестве главных: мудрая предусмотрительность (prudentia), право и справедливость (justitia), умеренность (temperantia) и мужество (fortitudo). Эти четыре доблести, перешедшие от Платона к философам Аристотелевой школы, к эпикурейцам и стоикам, составляли уже на протяжении многих веков и должны были составлять впредь общее нравственное достояние античного мира. Их признавали, на них сходились все цивилизованные люди. Цицерон также принимал их, комментировал, в частности, в своем трактате «Об обязанностях», и наше общее понимание его творчества во многом определяется его отношением к этим исходным доблестям. Воплотить их в жизнь, добиться, чтобы другие сделали то же, значило обеспечить во всем мире мир и господство права, значило положить конец разрушительным распрям, которые в прошлом так часто приводили к гибели города и государства, значило вернуть вчерашним побежденным достоинство и свободу. Такая программа, естественно, привлекала каждого. Ее дополняли некоторые другие положения, вытекавшие одновременно и из римской традиции, и из размышлений философов. К их числу относилась, например, идея о том, что главное в человеке, подлинная его ценность заключены в духовном потенциале личности, в силе мысли. Не менее важным было и другое положение, согласно которому самой природой человек изначально предназначен для сообщества с другими, что мир представляет собой огромную гражданскую общину, все члены которой имеют по отношению друг к другу определенные обязательства, коренящиеся в самом их существе. Все эти идеи мы обнаружим у Цицерона — иногда в ею теоретических размышлениях, чаще в мотивировке его поступков; они ясно ощущаются, например, втом, как он управлял киликийскими городами в пору своего проконсульства.
Читать дальше