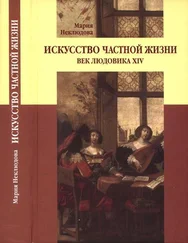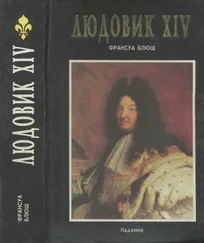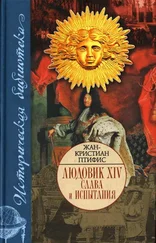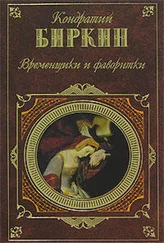Так как кардиналы молчат, он указывает пальцем на небо: «Господа, отвечать вы будете перед этим судом».
Затем он говорит, что испытывает угрызения совести из-за того, как он поступил с кардиналом де Ноаем. Он заявляет, что не питал ненависти к архиепископу Парижскому. Фагон и Марешаль советуют ему помириться с ним. Людовик соглашается: «Заверьте его, что для меня будет высочайшим счастьем умереть у него на руках». Врагам Ноая кажется, что это уже слишком.
Роган, Бисси и мадам де Ментенон совещаются, стоя у оконного проема, а затем возвращаются к королю: его смерть на руках Ноая была бы торжеством их врага. Кардинал-архиепископ Парижский должен сначала принять буллу. Ноай так и не появился.
В последние дни жизни Людовик ко многим обращается с прощальными словами; те, которые он адресует принцессе Пфальцской, жене своего брата, матери регента, производят на нее такое впечатление, что она пишет: «Прощаясь, он сказал мне такие нежные слова, что я не знаю, как я тут же не рухнула без чувств».
Двадцать восьмого августа появляется некий провансальский знахарь по имени Брен и предлагает «безотказное» средство от гангрены. Герцогиня Орлеанская, герцог дю Мен и граф Тулузский сообщают о нем королю, и тот соглашается его принять. Король пьет этот «на редкость вонючий, сделанный из какого-то животного эликсир», небольшое количество которого растворили в рюмке то ли бургундского, то ли аликанте.
На несколько часов ему становится лучше, и дамы объявляют Брена «ангелом, ниспосланным небесами, чтобы спасти короля», а всех парижских и придворных врачей требуют сбросить в реку. Наступает ухудшение, король вновь принимает лекарство, и в четверг 29-го его состояние вновь улучшается. Апартаменты герцога Орлеанского, заполненные придворными, явившимися засвидетельствовать свое почтение будущему регенту, пустеют.
«Если король еще раз позавтракает или пообедает, — говорит герцог, — около меня не останется никого!»
В пятницу 30 августа начинается агония. Людовик пребывает в полубессознательном состоянии. Мадам де Ментенон удаляется в Сен-Сир и более не появляется.
Ночью 31 августа священники читают над ним молитвы для умирающих. Как рассказывает Филипп де Курсийон, маркиз де Данжо, «голоса священников, читавших молитвы, задели какую-то пружину в машине (король стал машиной), и его величество произнес громче, чем они, Ave Maria и Credo несколько раз подряд, но совершенно бессознательно, просто в силу привычки произносить их, каковую имел».
«О Боже, приди мне на помощь, поскорее помоги мне» — таковы его последние слова. Затем он потерял сознание и лишь 1 сентября на мгновение пришел в себя, прежде чем в 8 часов 15 минут испустить последний вздох.
На следующий день парламент, еще не знающий последней воли короля, передает бразды правления герцогу Орлеанскому, который возвращает парламенту право ремонстраций. 4 сентября внутренности покойного приносят в собор Парижской Богоматери, а 6-го кардинал де Роган доставляет его сердце в молельный дом иезуитов на улице Сент-Антуан. 9-го вечером траурный кортеж покидает Версаль в сопровождении восьмисот всадников — лейб-гвардии, мушкетеров и легкой кавалерии — со свечами из белого воска в руках. Кортеж проходит через Париж ночью и прибывает в Сен-Дени 10 сентября на рассвете, когда улицы еще пустынны.
В реестре умерших Версальского прихода свидетельство о смерти короля появилось лишь шесть недель спустя: «В первый день сентября года тысяча семьсот пятнадцатого великий, очень могущественный и очень замечательный Король Франции, славной памяти Людовик Четырнадцатый, семидесяти семи лет от роду скончался в своем дворце и был перенесен в Сен-Дени в девятый день названного месяца в присутствии Мессира Жана Дюбуа, каноника Сен-Кантена, капеллана королевского оркестра и Мессира Пьера Маннури, священника конгрегации миссионеров, каковые поставили свои подписи вместе с нами».
В своем послании, направленном в Рим после смерти короля, нунций Корнелио Бентивольо представляет его почти святым. «В нем сочетались все королевские и христианские добродетели и, за исключением легкомысленных заблуждений молодости, коим не подвержены лишь те, кто по исключительному благоволению Провидения призван к святости, не сыщется ничего, что можно было бы поставить ему в упрек».
Король Пруссии Фридрих Вильгельм I был краток. «Господа, король умер», — сказал он по-французски своим приближенным. Все поняли.
Читать дальше