В 1973 году Ася Пекуровская с трехлетней Машей улетает в Америку, не связывая с Довлатовым никаких надежд. В Риме у Аси украли кошелек с деньгами и документами, и она, с дочерью на руках, сама в эти дни не очень здоровая, бродила по римской жаре, не зная, куда податься… Дочь узнает о том, кто ее отец, только после смерти Довлатова.
В 1977 году Лена с Катей тоже уедут. С Довлатовым останется лишь мама. Жизнь становится совсем уж беспросветной. Жены и дочери уезжают от него обреченно и безоговорочно — словно его и нет, пустое место. Уезжают и друзья. Его кумир Бродский в 1972 году навсегда покинул Россию. О нем уже знал весь мир, и на Западе его ждали. В Вене его встретил сам Карл Проффер, профессор, хозяин «Ардиса», издание в котором решало тогда всё. Бродский стал преподавать в самых престижных американских университетах, его книги выходили одна за другой и имели феноменальный успех, в большом количестве проникая и в Россию. Перед отъездом он написал письмо Брежневу: «…и даже если моему народу не нужно мое тело, то душа моя ему еще пригодится!» И слова те оказались пророческими.
А Довлатов опять в раздрае и на распутье. Продолжать попытки пробиться в Ленинграде — или избрать другой путь? Конечно, путь Бродского был бы для него идеальным, но он понимал с горечью, что если сейчас ему ринуться за рубеж, то никакой Проффер его не встретит и преподавание в университетах ему не предложат — кто он такой? Литературного багажа мало, нужной «скорости взлета» он еще не набрал.
В ту пору как раз начался «большой разъезд». Сняться с привычного места пришлось и мне. Началось расселение, как бы под капремонт, жилого дома Всесоюзного института растениеводства на Саперном, где жили многие ученики и последователи Вавилова и куда мои родители вместе с нами приехали после блокады. Знающие люди говорили, что капремонт ни при чем — просто дом приглянулся одному банку. Растениеводство теперь как-то меньше интересовало начальство. Оказалось, что власть — любая! — ближе к торговцам, чем к ученым, не говоря уже о писателях, тем более будущих.
Пришлось и мне уехать — не в Москву, не в Америку, а всего лишь в Купчино, на необжитую окраину города. Не Михайловское, конечно, не Болдино, где творил Пушкин, — но польза в этом суровом перемещении была. «Доброму вору все впору»! Привыкши уже ходить только по стройным улицам Петербурга и общаться исключительно с гениями — в Купчине я, наконец, вплотную увидел родной русский народ «во всей его небритости», написал об этой жизни «тяжелый» рассказ «Боря-боец» и с ним впервые прорвался в «Новый мир». Что ж, полезно, говорят, удаляться в пустыню для просветления. Хватит, погуляли!
Глава двенадцатая. Золотое клеймо неудачи
Довлатов тоже исчез с Невского. Потом прошел слух, что он переехал в Таллин. Этот город всегда нас манил. Сесть в поезд (тогда это стоило сущие копейки) — и, проснувшись утром, увидеть этот город-сказку! Целыми учреждениями ездили на выходной, оказывались на Ратушной площади, покрытой брусчаткой (уже экзотика!), спускались в уютные полутемные кафе (эта полутьма, не разрешенная у нас, была интимной, манящей, запретной). В чистых магазинах с восхитительно вежливым обслуживанием покупали столь модные тогда грубоватые керамические чашечки, простые и элегантные (особенно после выкинутых бабушкиных громоздких люстр) торшеры и бра, и с ними как-то сразу чувствовали себя идущими в ногу с прогрессом, ощущали свое стремительное сближение с мировой цивилизацией. Не было тогда города заманчивей. Казалось, и вся жизнь там только такая, и только такая и может быть: вежливая, разумная, уютная! И у всех нас возникала радостная догадка: а может, там и настоящей советской власти нет? Ведь не может же быть при советской власти так хорошо?
Именно эта безумная надежда, особенно сильная у ленинградцев, ощущающих Таллин совсем рядом, и поманила Сергея туда. Это был переезд в другой мир, «первая эмиграция» Довлатова. Вот его первая оценка Таллина в письме к Эре Коробовой:
«Милая Эра!
Сквозь джунгли безумной жизни я прорвался, наконец, в упорядоченный Таллин! Сижу за дверью с надписью “Довлатов” и сочиняю фельетон под названием “Палки со свалки”. Ленинградские дни толпятся за плечами, беспокоят и тревожат меня. Мама в ужасе, Лена сказала, что не напишет мне ни одного письма. Долги увеличились, ботинки протекают настолько, что по вечерам я их опрокидываю ниц, чтобы вытекла нефтяная струйка… Очень прошу написать мне такое письмо, чтобы в нем содержался ключ, какой-то музыкальный прибор для установления верного тона… В Таллине спокойно, провинциально, простой язык и отношения. Улицы имеют наклон и дома тоже. Таллин называют игрушечным и бутафорским — это пошло. Город абсолютно естественный и даже суровый, я его полюбил за неожиданное равнодушие ко мне».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


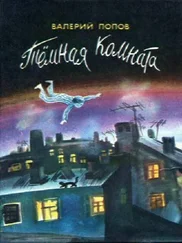
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
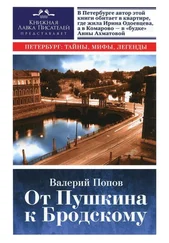
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
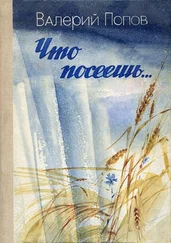
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)