Именно поэтому Довлатов так долго не мог закончить «Зону» — надо было, при всем ее большом объеме, точно вдеть ее в «игольное ушко», чтобы не растратить зря самый ценный имеющийся у него материал.
Но между тем лучшего времени для того, чтобы стать хорошим писателем, в нашем городе, да и в Москве, не было, и уже вряд ли будет. Сейчас-то намного трудней и безнадежней — литературу оттирают на задворки, в никуда, втюхивая вместо нее «конвейерные» издательские поделки. А тогда совсем иное было умонастроение: равнялись с Набоковым и Прустом! Как у меня написано в повести «Излишняя виртуозность»: «Жали руки до хруста и дарили им Пруста!»
Одна из замечательных довлатовских приятельниц — Эра Коробова, бывшая жена Анатолия Наймана, вышедшая потом, тоже, увы, не навсегда, за знаменитого литовского поэта Томаса Венцлова, — вспоминает:
«Фокстерьера Глашу я знала с ее ранней юности. А ее хозяина Сергея Довлатова — со времени его возвращения из армии и вплоть до того момента, когда за ним — и за Глашей — задраили дверь самолета… Мы жили в пяти минутах ходьбы друг от друга. От его дома на Троицкой, тогда Рубинштейна, нужно было повернуть направо, миновать Пять углов, затем — один квартал по Разъезжей и один по моей улице Правды. На этом пути Сергей износил, пренебрегая условностями и сезонами, не одну пару шлепанцев. Нет, это не эпатаж, не вариант морковки в петлице. Шлепанцы, кроме своего прямого и удобного назначения, думается мне, были атрибутом благородного института соседства, естественным знаком сопричастности и, конечно же, доверия. Такое “топографическое” основание отношений с их насущной доступностью… делало их (шлепанцы) необходимыми. В другом случае, с переменой мест и обстоятельств… они просто теряли ценность. Вот почему они (шлепанцы) и завершились там, на аэродроме “Пулково-2”.
В наших отношениях не было ни обыденности, ни, тем паче, фамильярности. Более того, Сергей привносил в них оттенок куртуазности, порой даже чопорной. Впрочем, амплитуда проявлений была далеко от ровной однообразности. Он никогда не заходил второпях или “от нечего делать”. За все годы только однажды “забежал” — в канун своего отлета. Принес еще один, и на сей раз последний, подарок: маленькую фанерку с выжженным на ней и слегка раскрашенным изображением Христа.
Он приходил всегда с чем-нибудь. С рукописью — никогда не читал, оставлял; с книгой, вином. Кстати, он первый, кто “открыл” только появившийся в городе тогда “Чинзано”. А если было не с чем, то с какой-нибудь новостью, вопросом, микропросьбой или просто с Глашей на руках. Это входило в регламент посещения, но никак не определяло его смысла. Если не заставал, ждал — то растянувшись во весь рост на скамейке бульвара, то, сложившись вчетверо, на ступенях моей узкой лестницы. Главным в этих приходах был отклик-разрядка на какое-то событие, реакция на свое, и не только свое житейство, отчаянно непростое, требующее разрешения каких-то перипетий.
На протяжении всех лет наши общения хотя и были частыми, регулярными не были, да и ровными их не назовешь. Но другом он оказывался всегда замечательным: отзывчивым, надежным и трогательным. Я думаю, каждому из друзей он был открыт. Хотя и по-разному. Обращенность ко мне была окрашена прежде всего его отчаянием.
Его путь был мучителен. Не в литературу и не в литературе, но к своему месту в литературе. Человек ранимый, он глубоко уязвлялся тем, что как писатель не входил в когорту уже признанных.
Он равно был готов и на скандал, и на компромисс. Это была драма, в которую он вовлекал разное, но, замечу, никогда не теряя остроумия, обаяния и артистизма. Томас Венцлова, относившийся не без доли подозрительности к нашей дружбе, зная мои привязанности, окрестил Довлатова “Зорба социализма” (в честь веселого, мощного и весьма грозного героя фильма «Грек Зорба», весьма популярного тогда. — В. П.). Очень похоже. И широк, и щедр, и доброжелателен, и т. п. Но вторая часть определения вносит существенный и грустный нюанс: он не был свободен, не был свободен от несвободы. Иногда он невыносимо остро ощущал себя жертвой. Зная наперед причины всех преследующих его обстоятельств, он, вопреки всему, пытался “вписаться”, оставаясь при этом рыцарем высокой литературы. Естественно, не выдерживал. Срывался. Это было не всегда весело. Свидетелей тому немало, я в их числе.
Литературу он считал областью абсолютно автономной. Стоял насмерть на страже ее эстетики. И все, что на уровне слова и стиля не соответствовало норме, возводимой им в закон, расценивал как этическое преступление. Попросту говоря, становился агрессивен. Водном из писем ко мне — единственное из всех отпечатано на машинке, что означало: не о личном — есть такие литературные рецепты:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


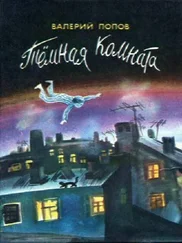
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
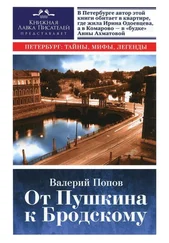
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
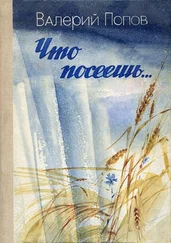
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)